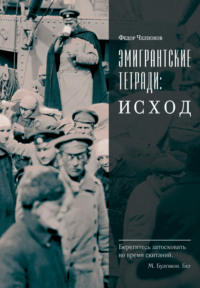Kitobni o'qish: «Эмигрантские тетради: Исход»

© Издание на русском языке. ООО «Издательская группа «Азбука-Аттикус», 2025
КоЛибр®
Рукопись Федора Челнокова
Дмитрий Новиков
У этой рукописи необычная судьба. Даже в том, как она стала вновь доступна через сто лет, есть некая случайность. Ведь свидетельство противостоит безликим силам истории, его голос возвращает прошлому нечто сокровенное, идущее сквозь время, – рассказ очевидца. Его обретение выглядит как исторический роман, где рукопись наконец дошла до адресата. У этого романа множество поворотных моментов, без которых эта книга не стала бы возможной. Первый раз открыв файл с рукописью на высоте 11 тыс. метров в самолете, который летел из Парижа в Москву, я испытал чувство человека, который вдруг соприкоснулся с жизнью давно ушедшей, но говорящей со мной так, как будто все происходило снова и сейчас. Такова была эмоциональная сила текста, обращенного к неизвестному мне адресату, что дистанция, отделяющая от прошлого, исчезла, и у меня возникло пробирающее до дрожи ощущение, что я первый, кто через сто лет, на высоте одиннадцати километров читает это письмо, постепенно переходящее в дневник. На первой его странице значилось: «1919 г. 29 июля нового стиля, Белград». В этом состоит особенность рукописи, относящейся к тому жанру дневников, где желание автора рассказывать о происходящем приподнимает его над временем, превращая личную историю в свидетельство об эпохе.
Еще в самолете, не зная, кому было адресовано это письмо-дневник, не предвидя его ценности как документа о периоде «исхода», последовавшего за революцией и приходом большевиков в Крым и Одессу, я ощутил прикосновение истории – чувство, которое до сих пор полагал литературным изобретением. Мне стало понятно, что рукопись будет опубликована, хотя в тот момент я с трудом лишь продирался через незнакомый почерк. Читая дневник, я постепенно погружался в чужую жизнь, пытаясь увидеть, перенести его в знакомые мне обстоятельства, представить его себе нашим современником или, наоборот, самому перенестись в прошлое. Казалось бы, не так много лет прошло и писал он на русском языке, но все же это был другой язык, за которым стоял другой мир. Не так ли устроена всякая память – и историческая память в частности? Мог ли предполагать автор дневника, что его будут читать как историческое свидетельство? Читал ли кто-нибудь эти строки до меня или прошло сто лет, прежде чем послание дошло? Примерно такие мысли были у меня, пока, поглядывая в иллюминатор, я медленно продвигался по рукописи, угадывая слова, ощущая себя путником, провалившимся в катакомбы, где на него уставились глаза людей, нарисованные на стенах.
Что мне было на тот момент известно об авторе текста? Федор Васильевич Челноков (1866, Москва – 1926, Берлин), потомственный почетный гражданин Москвы, промышленник, был прадедом родившейся и живущей в Париже Наташи Никулиной-Бахрушиной. Она и передала мне рукопись. Встреча с Наташей оказалась поворотным пунктом исторического детектива, продолжением которого была лежащая на самолетном столике рукопись. Это случилось так. Как-то Сергей Митурич, директор издательства «Три квадрата», посетовал, что сейчас, когда они готовят публикацию международного академического труда по Русско-японской войне, сложно подобрать фотографии с российской стороны фронта. Я сказал: «Что за проблема? У меня же они есть». Я имел в виду большую тумбу со стеклами, которая всегда, сколько я себя помню, стояла в дальнем темном углу. В ней хранились фотографии моего прадеда Сергея Васильевича Челнокова (1861, Москва – 1924, Копенгаген), про которого я лишь знал, что он эмигрировал после революции и умер в Дании.
Фотографии на стекле в стереоскопическом формате рассматривать нужно через специальный прибор – стереоскоп. В нем они становятся объемными, в чем и состоят волшебство и тайна. В детстве я рассматривал их: там были снежные горы, водопады, парусники, дети, играющие на улицах незнакомых городов, там застыли причудливые экипажи, франты и дамы в костюмах не нашего времени. По остановившемуся, безмолвному миру, напоминавшему фантастику Герберта Уэллса, путешествовать можно было долго, пока не уставали глаза, хотя путеводителя по прошлому не прилагалось. Дело в том, что на фотографиях редко где были подписи, а если и были, они указывали либо время, либо место: «Рим», «Мытищи», «Порт-Артур», так, будто все остальное само собой понятно. Посмотрев новыми глазами на эти фотографии, я впервые удивился тому, что никогда не пытался узнать что-то об этих фотографиях, что мне ничего не известно о прадеде-фотографе, что не осталось никаких записей: ни дневника автора, ни писем, ни документов. Как могло случиться, что от прошлого остались только изображения? Удивительным, всегда думал я, было лишь другое время, где пешеход, идущий вдоль Собора Св. Петра, не коснется башмаком брусчатки и где ребенок, играющий в чехарду, так и будет вечно висеть в воздухе. Да, там все было как в перевернутой подзорной трубе, и лишь магический аппарат оживлял стекла.
После разговора в издательстве я задумался о том, почему молчит время. Молчание в семье о прошлом было частью негласного контракта, который делал жизнь нормальной, исключая то, было опасно. Но и сама опасность была тоже скрыта молчанием. Лишь позже, изучая прошлое семьи, я узнал, что брат моей бабки Наталии Челноковой, дочери фотографа, погиб в лагерях в 1944 году. За исчезнувшими дневниками, уничтоженными письмами действительно стоял тектонический сдвиг, затронувший «связующую нить времен». Тот разговор с Сергеем Митуричем заставил меня посмотреть на эти фотографии иначе: кто он, фотограф? Что я знаю о нем, его семье, его жизни?
Для нашего рассказа важен именно фотографический след, который приведет нас к обнаружению рукописи Федора Челнокова. Фотографии, будучи вытащены из тумбы в углу комнаты и представлены публике, открылись в новом качестве: это были очень выразительные работы, за которыми угадывалась фигура неординарного, мыслящего мастера. И действительно, вскоре обнаружилось, что Сергей Челноков был членом Московского художественно-фотографического общества, входил в его правления и жюри, а также был лауреатом дореволюционных фотографических выставок. Фотографии С. Челнокова производили впечатление на всех, кто их видел, и вскоре, в 2015 году в Музее Москвы состоялась большая выставка «Сергей Челноков. Открытие коллекции». На выставке среди семейных фотографий оказался небольшой снимок, на котором была запечатлена девочка с куклой. Такая же фотография обнаружилась на комоде в парижской квартире Наташи Бахрушиной-Никулиной, правнучки Федора Челнокова. Федор и Сергей Челноков были родными братьями, оба эмигрировали после революции, однако, если дочь Федора Лидия (1897, Москва – 1978, Париж), девочка с куклой, осталась в Берлине, а затем перебралась в Париж, то дочь Сергея Наталия после смерти отца в Копенгагене в 1924 году возвращается вместе с матерью в советскую Россию. Благодаря фотографиям Сергея Челнокова, которые оказались хранителями прошлого, стоило вытащить их из зоны молчания, стал доступен еще один фрагмент памяти – на этот раз письменной.
Тогда, в самолете я спросил себя: как происходит, что в истории нечто оказывается утаенным, а потом выходит на свет? Как из этой вечной игры видимого и утаиваемого складывается время истории, с которым мы имеем дело? Вынырнув из ниоткуда, фотографии и тексты начинают говорить сильнее, проникновеннее, за ними едва различимым шумом обозначает себя коллективный опыт целого века. Так устроена история дневников и фотографий: через них мы прикасаемся к общему опыту, где история эмигранта-фотографа Сергея Челнокова и история эмигранта-мемуариста Федора Челнокова оказываются лишь эпизодами в огромной общей истории России, пережившей в XX веке небывалые потрясения. Отсюда эффект чудесного выживания, который сопровождает восприятие этих документов. Ведь в том, как фотоархив Сергея Челнокова уцелел после революции в подвале дома в Чистом переулке, в том, как хрупкие стекла бережно сохранялись при переезде из одной коммуналки в другую, уже есть типическое для эпохи, когда все письменные семейные документы по соображениям безопасности уничтожались. И точно так же есть нечто типическое в том, как благодаря сохраненным фотографиям через сто лет в Париже обнаруживается рукопись другого русского эмигранта, который писал в Берлине, без надежды, что его рукопись когда-либо будет опубликована на родине. Слова о «небывалом бедствии, постигшем Россию», которые мы встречаем на первой странице «Исхода», все эти белые пятна и стертое прошлое помогают понять ту драматическую ситуацию, в которой Федор Челноков ведет свой дневник эмигрантских скитаний, а затем, живя в гостинице в Берлине, пишет, пытаясь рассказать для кого-то в будущем о жизни, которой уже никогда не будет.

Федор Васильевич Челноков, 1922 г., Ялта
Именно этот мотив свидетельства для неких неведомых потомков и стал мне открываться как ведущий, по мере того как я знакомился с текстом Федора Васильевича. Вполне возможно, что этот мотив и был тем, что связывало его с жизнью до поры до времени, поскольку, подобравшись в воспоминаниях к тому дню, в котором он писал, Федор Челноков сводит счеты с жизнью. Сам этот факт заставляет относиться к рукописи иначе – как к некоему предсмертному слову, в котором говорящий хочет сказать самое главное. И действительно, драматические обстоятельства отразились и на самой рукописи, и на ее судьбе: часть дневника Федора, описывающего повторный исход из России, оказалась утрачена еще в Сербии, а часть воспоминаний, написанных уже в Берлине, была уничтожена дочерью Федора Лидией. Почему? За этим жестом смятения девушки, оставшейся без средств к существованию в чужой стране после самоубийства отца, стоит слишком много, чтобы мы могли об этом здесь рассказать, он лишь позволяет догадаться о той пропасти отчаяния, на краю которой писались воспоминания, и о тех невысказанных в тексте мыслях, которые автор унес в могилу. Вот эта, ненаписанная драма жизни, оставила свой след на рукописи, изъяв из нее неизвестную нам часть. Что было в ней? Почему именно она вызвала такую реакцию «девочки с куклой»? Возможно, там было нечто, с чем дочь была категорически не согласна? Отразился ли в этом ее конфликт с отцом? Или там был текст, как-то объясняющий его самоубийство?
Bepul matn qismi tugad.