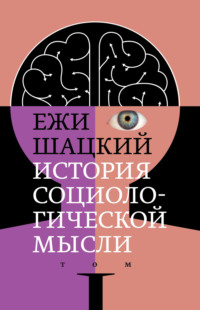Kitobni o'qish: «История социологической мысли. Том 1»
Редакторы серии
И. Калинин, Т. Вайзер
Перевод с польского; общая редакция А. Васильева
Издание осуществлено при поддержке Польского культурного центра в Москве, www.kulturapolshi.ru и Программы поддержки переводов © POLAND

Jerzy Szacki
Historia myśli socjologicznej
Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2006
Опубликовано по соглашению с Polish Scientific Publishers PWN
© Е. Барзова, А. Васильев, Н. Вертячих, Г. Мурадян, А. Уразбекова, В. Федорова, О. Чехова, перевод с польского, 2018
© OOO «Новое литературное обозрение», 2018
* * *
Предисловие
Нынешнее издание «Истории социологической мысли» я назвал «новым», а не «третьим», поскольку оно довольно существенно отличается от первого и второго изданий (1981 и 1983), которые различались лишь незначительными техническими деталями. В сущности, второе издание было простой допечаткой первого. По прошествии двадцати лет подобное механическое повторение уже не имело бы смысла.
Не потому, что мои взгляды на социологию претерпели за это время какие-то принципиальные изменения. И не потому также, что я нашел какой-то лучший способ упорядочения материала. План всей работы остался таким же, основополагающие тезисы книги также не претерпели изменений. Однако в определенном смысле книгу необходимо было написать заново, потому что в течение этих двадцати или более лет я что-то прочитал и лучше осмыслил. Кроме того, было издано много новых работ и переводов, а также, и это, возможно, самое важное, появились новые идеи, которые следовало учесть. Учесть в двойном смысле. Прежде всего, их необходимо было описать как таковые (ведь предыдущие издания заканчивались на «функционализме и его критиках»), а также хотя бы кратко остановиться на том, что действительно важного было сделано в социологической мысли за последнее время и как изменилось само прочтение социологической традиции. Кроме того, книга имела некоторые пробелы и в разделах, посвященных более ранним периодам, также требовавшие заполнения. Поэтому книга стала толще.
Чем еще это новое издание отличается от предыдущих, не считая, конечно, того, что я сделал некоторые стилистические поправки, заменил «наш век» на «прошлый век» и «прошлый век» на «XIX век», сверил цитаты с новыми переводами, а также существенно дополнил библиографию, внеся в нее многочисленные новые публикации, а также те старые публикации, о существовании которых я тогда не знал или к которым не имел в те времена доступа? Конечно, и эта библиография тем не менее неполна. В ней отсутствуют не только некогда очень важные статьи, от внесения которых я принципиально отказался, хотя и ссылаюсь на них в тексте, но и некоторые, быть может, важные книги. Это касается в особенности библиографии к тем разделам, темы которых далеки от моих собственных систематических научных занятий, но которые не могли быть пропущены в такой обобщающей работе. Авторы учебников обречены на никогда до конца недостижимую всеохватность.
Важнейшими изменениями в книги стали, конечно, два ее новых, написанных заново, обширных раздела (18 и 22), первый из которых восполняет мою прошлую недоработку, второй же посвящен тем концепциям, которые двадцать лет назад или еще не вполне сформировались, или же относительно которых еще не было уверенности в их значимости для социологии. Я не утверждаю, что таким способом мне удалось восполнить все пробелы и что я не пропустил ничего заслуживающего внимания в новейшей социологической мысли. Если бы эту книгу написал кто-то другой, а я был бы ее рецензентом, то можно быть уверенным в том, что я указал бы авторам не на один пробел. Поскольку же ее написал я, то мне остается лишь повторить Козьму Пруткова: «Нельзя объять необъятное».
Дополнения, сделанные в книге, не сводятся лишь к этим двум полностью новым разделам. В разных местах текста я добавлял то одно, то другое. Некоторые из этих дополнений, конечно, не являются особенно существенными (например, несколько страниц о взглядах Монтеня во 2-м разделе и несколько больший фрагмент о национализме в 4-м разделе), однако иногда эти дополнения казались мне важными. К их числу я отношу, например, подраздел о феноменологии в разделе 13, подраздел о структурализме в разделе 17, а также подразделы о Гофмане и неофункционализме в 21-м разделе. Следует также вспомнить, что некоторые подразделы, присутствовавшие в более ранних изданиях, оказались здесь очень существенно переработанными, и они, надеюсь, стали лучше (например, подраздел о критической теории в 14-м разделе).
Я не стремлюсь в этом предисловии дать читателям полный список тех изменений, которые были сделаны мною по сравнению с первой версией этой книги. С точки зрения концепции всего замысла эти изменения не являются принципиальными, в деталях же изменилось много, если не сказать, что очень много. В определенном смысле книга оказалась написана заново, поскольку в нынешнем издании нет ни одного предложения, которого я бы не переосмыслил заново.
Чтобы я ни менял, готовя новое издание, актуальность сохраняют те благодарности, которые я принес тогда. Мои благодарности были адресованы Американскому совету научных обществ (American Council of Learned Societies), который в 1972/73 академическом году предоставил мне возможность пребывания в Университете штата Миннесота в Миннеаполисе, покойному профессору Дону Мартиндейлу, который был там моим гидом и советчиком, All Souls College в Оксфорде, где в 1976 году я продолжал готовить первую версию этой книги, госпоже Дороте Лаховской, которая была внимательным и критичным редактором той версии текста, а также неизменно мне помогающей моей жене, профессору Барбаре Шацкой.
Работа над новым изданием «Истории социологической мысли» продолжила этот список, к которому теперь следует добавить прежде всего венский Institut für Wissenschaften vom Menschen (Институт наук о человеке), где, будучи свободным от варшавских забот, я дописывал то, чего не хватало раньше, и перерабатывал то, что меня не удовлетворяло. Я благодарю также и госпожу редактора Эльжбету Сташкевич за помощь в заключительной работе над книгой, а также за ее святое терпение, с которым она ждала ее окончания. Когда несколько лет назад я подписывал договор, я и понятия не имел о том, какая работа меня ждет.
Раздел 1
История социологии: проблемы и польза
Ни в одной области науки нет единого мнения о том, необходимо ли знание ее ранних этапов развития для занятия ею должным образом. Как писал Йозеф Шумпетер: «Почему мы изучаем историю любой науки? Как считают некоторые, для того чтобы сохранить все полезное, что содержится в трудах предшествующих поколений. Предполагается, что концепции, методы и выводы, не представляющие интереса для современной науки, вообще недостойны внимания. Тогда зачем обращаться к авторам прежних лет и их устаревшим взглядам? Может быть, предоставить все это старье заботам немногих специалистов, находящих вкус в таком занятии?»1
1. Нужна ли история науки ученым?
Вопрос отнюдь не риторический. Занятие историей любой науки требует на него четкого ответа, тем более что в доминирующей в нашей культуре концепции науки распространено убеждение в бесполезности или весьма малой пользе истории для того, кто не является профессиональным историком или любителем истории, а занимается только исследованием современности.
Даже в философии, которая, кажется, в немалой степени базируется на диалоге с предшественниками, которые столетиями пытались ответить на те же самые вопросы, нередко звучали голоса, утверждающие, что изучение истории – бесполезная трата времени. «Люди, которые создают научную философию, – писал, например, Ганс Райхенбах, – не оглядываются на прошлое: их труд не выиграет от исторических рассуждений. Они столь же антиисторичны, как Платон или Кант, поскольку также интересуются только предметом своих исследований, а не его связями с прошлым»2. Чьи-то «мнения» только отвлекают внимание от важнейшего, то есть от самого предмета.
Такая позиция, естественно, ярче всего проявляется в тех отраслях науки, «научный» характер которых (в значении, соответствующем английскому science) теперь уже не вызывает сомнений. Гуманитарные науки имеют своих классиков, к которым неустанно возвращаются, у точных же наук их нет. Распространено мнение, что в «точных» науках имеет место накопление знаний, в ходе которого все ценные достижения незамедлительно поглощаются современной наукой, а все остальное быстро забывается. В лучшем случае иногда становится темой специализированных исторических изысканий, которые ученому вовсе не обязательно читать для достижения максимальной компетентности в своей области исследований.
Такое понимание science лучше всего, пожалуй, передает известная формулировка Альфреда Норта Уайтхеда: «Наука, которая не решается забыть своих основателей, погибла»3. Конечно, речь совсем необязательно идет об их забвении в дословном смысле, а о забвении их как мастеров, авторитетов, все еще достойных партнеров дискуссии, какими остались, скорее всего, навсегда великие философы прошлого или классики отдельных областей гуманитарной культуры, особенно литературы и искусства.
Ситуация социологии, как и вообще социальных наук («третьей культуры», по определению Вольфа Лепениеса)4, была и остается в высшей степени двусмысленной. С одной стороны, мы имеем здесь дело с излишним рвением как можно скорее и как можно полнее уподобить их естествоведению как науке в точном значении этого слова. С другой стороны, давление традиции и особенности исследуемого материала приводят к тому, что такие стремления встречают сильное сопротивление и заканчиваются, в лучшем случае, половинчатым успехом.
О колебании социологии между естествознанием и гуманитарной наукой мы еще не раз будем говорить в этой книге. Пока что речь идет только о том, что ее отношение к собственному прошлому в огромной мере зависит от того, в какую из двух сторон она склоняется5. В этом вопросе важнее всего тип принятой философии науки; именно он влияет на то, трактуется ли предыстория данной науки как нечто бесполезное или даже постыдное или же, напротив, в ней видят сокровищницу идей, в которой современный ученый сможет найти для себя что-то ценное.
Философией науки, сыгравшей самую значительную роль в формировании теоретического мышления социологов, был позитивизм. Оставляя его подробное обсуждение на более поздние разделы книги (главным образом разделы 8 и 20), здесь обратим внимание лишь на одну его особенность, а именно на тезис «гносеологической независимости фактов от теории»6, иначе говоря, на веру в существование «чистых» или «сырых» фактов, наблюдение которых дается исследователю тем лучше, чем более он свободен от уже существующих мнений или «предубеждений» и в состоянии начинать работу – как говаривал Дюркгейм – par le commencement7. Отсюда враждебность первых поколений социологов-позитивистов к более ранней социальной философии и недоверие их следующих поколений к собственным предшественникам, которые, как обычно выяснялось, не умели полностью реализовать программу «эмпирической социологии», то есть социологии единственно научной. Такой позитивистский «гиперфактуализм»8, исходящий из утопической идеи возможности исследования действительности, свободного от концептуализации, и сводящий научные теории к простому суммированию его результатов, неизбежно должен приводить к падению интереса к более ранним теориям, или знакомству с ними только ради выявления ошибок, или, наконец, для подтверждения возможности создания научной социологии, поскольку кое-какое накопление знаний все же имеет место. И все-таки история как таковая не нужна. Ее изучение приносит, возможно, какую-то пользу, но не способствует развитию знаний о предмете, которым занимается данная наука.
Для ориентированных подобным образом социологов теория имеет тем меньшее значение, что поскольку они стоят на почве теоретического монизма, в соответствии с которым наличие в какой-то области принципиальных теоретических разногласий лучше всего свидетельствует о том, что она находится на донаучной, или – как стали говорить после публикации «Структуры научных революций» Томаса Куна – «предпарадигматической» фазе. А ведь предыстория и история социологии – это истинная Вавилонская башня, где смешиваются самые разные языки и всякое взаимопонимание становится трудным, если вообще возможным, поскольку теории прошлого возникали не столько в результате методичного исследования фактов, сколько из повседневных наблюдений и разного рода «предрассудков». Будучи производными от «мировоззрений», «философий», «идеологий» и т. д., они не были и не могли быть научными теориями. Если в них случайно обнаруживаются какие-то удачные наблюдения или мысли, то наука или уже успела ими воспользоваться, или сможет это сделать, не заботясь о контексте, в котором эти наблюдения или мысли изначально возникли. Внимания заслуживает не разнообразие подходов и концепций, а в лучшем случае их конвергенция, предвещающая то, что теперь считается наукой.
Представляется, что правильная оценка значения истории социологии для самой социологии, то есть признание ею наличия собственных классиков, требует по меньшей мере двух вещей: во-первых, изменения точки зрения на роль неэмпирических факторов в развитии науки, а во-вторых, примирения с тем фактом, что социология – «наука полипарадигмальная», то есть территория постоянного сосуществования разных точек зрения, разных теорий, разных методологий. Отказ от «гиперфактуализма» – обязательное условие для понимания того, что теоретические конструкции, лишенные эмпирического фундамента, не лишены eo ipso какой-либо ценности, а движение от фактов к теории отнюдь не должно быть односторонним. Сомнение в возможности теоретического монизма в социальных науках в свою очередь открывает нам глаза на то, что идеи, абсолютно утратившие актуальность в рамках одной «парадигмы», могут оставаться актуальными в рамках других, в связи с чем их нельзя исключать из общей картины данной науки. Более того, нельзя исключать возвращений или ренессансов, в результате которых идеи, казавшиеся «устаревшими», «поверженными» и «забытыми», неожиданно обретают актуальность, по крайней мере частичную.
Позитивист скажет, что такого рода явления происходят за границами настоящей «общественной науки», однако истина в том, что, к счастью или несчастью, они имеют место в границах сегодняшней социологии, где ведется неустанный спор не только о фактах, но и о базовых гносеологических и онтологических принципах, предшествующих их изучению. «В общественной науке, – говорит Александер, – …аргументы, касающиеся научной истины, относятся не только к эмпирическому уровню»9. Если это так, то социология не может обойтись без своих классиков, обеспечивающих систему, с которой могут соотносить себя современные теории и исследовательские стратегии, так, как это происходит во всех областях, в которых нет общепризнанной «парадигмы» и где приходится спорить о совсем уже фундаментальных вещах, о которых споры велись веками.
Это, естественно, не означает отрицания идеала социологии как эмпирической науки. Как писал Карл Мангейм, один из главных оппонентов позитивистской концепции общественной науки: «Мы не отрицаем ни значения эмпирических исследований, ни существования фактов (мы менее всего склонны к иллюзионизму). Мы также обосновываем свои утверждения фактами, однако наше понимание этих фактов носит особый характер. „Факты“ всегда конституируются для познания в определенном мыслительном и социальном контексте. Само их постижение и формулирование уже имплицируют определенный понятийный аппарат»10. То-то и оно, что невозможно до конца осознать эту «понятийную аппаратуру» без знания социологической традиции и многообразных контекстов, в которых формировались различные концепции общественной жизни, продолжением или аналогами которых являются в той или иной степени современные социологические теории, конкурирующие друг с другом в рамках «полипарадигматической науки»11.
2. Аспекты истории социологии
Естественно, одно только признание социологами потребности заниматься классиками, или в более широком смысле прошлым своей дисциплины, ничего не решает, ибо существует множество способов занятия историей науки, так же как и историей вообще. То, как занимаются историей социологи, зависит от многих аспектов, особенно от того, как понимаются, с одной стороны, характер, диапазон и задачи самой социологии, а с другой стороны – возможная польза от истории12. Ведь иногда мы имеем дело с исследованиями, только кажущимися историческими, озабоченными не столько фиксированием того, как действительно все происходило и что из этого следует, сколько желанием найти в прошлом достаточно уважаемых предшественников. Многие труды, относимые к истории социологии, имели и имеют именно такой генеалогический характер, поэтому сложно удивляться раздражению авторов, которым случалось писать о «почти невротической жажде социологов узаконивать нынешние исследовательские начинания, относя их к долгой и славной традиции и, что еще хуже, стремясь скрыть сегодняшнее убожество под видимостью богатства прошлых достижений»13.
История социологии представляет собой неоднородную область знаний, прежде всего, потому, что в ней наличествует, как и в истории других социальных наук, два разных направления интересов, разница между которыми, впрочем, замечается крайне редко. Как отметил Р. Мертон, социологи, занимающиеся историей своей дисциплины, обычно склонны путать толкование и критику взглядов своих предшественников с собственно исторической работой, которая заключается в чем-то ином, нежели в систематизации мнений под углом тех или иных актуальных теоретических потребностей14. А это разные истории – в одном случае исследователя интересуют взгляды мыслителя прошлого, независимо от того, каково их первоначальное значение и в каком историческом контексте они были сформулированы, тогда как во втором случае именно это имеет решающее значение. В первом случае классики становятся старшими «коллегами», с которыми ведется вневременная теоретическая дискуссия, а во втором – они «факты», которые надлежит пояснить в контексте определенных исторических условий15, напоминающих сегодняшние условия разве что в общих чертах.
Первый из этих подходов я называю мифологическим, а второй историческим. Используя определение «мифологический», я отнюдь не намерен обесценивать его. Я имею здесь в виду исключительно ту особенность мифа, которая делает время неважным: описываются события, которые хотя и имели место в прошлом, однако являются чем-то постоянным и независимым от течения времени. Именно таков в социальных науках (как и в философии) статус значимых теоретических высказываний родом из прошлого. Каждое из них, конечно же, имеет какой-то исторический источник, однако продолжает вызывать интерес в основном благодаря некоему внеисторическому измерению и оценивается по принятым сегодня критериям как правдивое или ложное, «научное» или «ненаучное».
Таким почти всегда бывает статус классика, которого характеризует, можно сказать, двойная хронологическая принадлежность: по своей метрике он относится к прошлому, но одновременно принадлежит настоящему, поскольку у него ищут и находят ответы на современные вопросы, без колебаний опуская все то, что сегодня неактуально, то есть обычно то, что связывает классика с его собственной эпохой. Осознание исторического контекста такого произведения служит максимум для того, чтобы выказать снисхождение к его «ограничениям» и «ошибкам». Впрочем, нередко классиков преподают на том или ином современном языке, как бы исходя из предпосылки, что это язык универсальный. Таким образом, предполагаемая история превращается в аннотированный каталог тезисов, так или иначе современных. То, как они соотносятся со своим оригинальным или первоначальным видом, становится, в сущности, второстепенным делом, которое оставляют на откуп педантам – профессиональным историкам, интересующимся «древностями» как таковыми.
Критика такой «истории» науки, несомненно, оправдана так же, как любая критика исторического презентизма, для которого прошлое важно лишь настолько, насколько оно является префигурацией современности. Мало что можно добавить к критике презентизма в историографии, содержащейся, например, в идее Квентина Скиннера16. Не стоит, однако, заблуждаться относительно возможности полной элиминации презентизма. Особенно маловероятно избежать его в такой области, как история социологии. То, каким автором мы занимаемся, в немалой степени зависит от его сегодняшнего ранга. Нередко это означает переворот в давних иерархиях, а то и отказ от некогда популярных авторов, которые заслуженно или незаслуженно попали в абсолютное забвение. Занимаясь же отдельными авторами, мы чаще всего понимаем их иначе, чем их современники, и, возможно, иначе, чем они сами хотели бы быть понятыми. Абсолютная точность – так милая сердцу настоящего историка – означала бы их заключение в нерушимых границах их эпох и интеллектуальной среды. То, что социальные теории в какой-то мере продолжают жить, несмотря на изменение условий, в которых они возникли, становится возможным благодаря тому, что их постоянно по-новому прочитывают и интерпретируют, можно сказать – «искажают» и мифологизируют.
Таким образом, социологическая традиция, как и любая другая традиция, не является собранием идей и доктрин, содержание которого можно определенно установить благодаря труду историков tout court (лишь, только). Она пребывает в неустанном движении, которое то и дело аннулирует более ранние определения, причем происходит это не столько благодаря открытию каких-то новых исторических источников, сколько благодаря происходящим в современном научном сознании переменам.
Избежать этого практически невозможно, поэтому стоит примириться с тем фактом, что в своем отношении к истории мы все в какой-то степени презентисты. Если бы было иначе, мы, скорее всего, вообще бы ею не занимались. Но важно не забывать, что история слагается не только из того, что мы в нее вносим, исходя из представлений нашего времени, если мы все-таки хотим быть историками, а не мифотворцами. Историк должен отдавать себе отчет в том, что характеристика автора, ныне считающегося «классиком», не сводится только к возможно точной реконструкции мыслей автора, но и к прослеживанию его «жизни после смерти» – того, что происходило и происходит с его наследием. Вопреки распространенному представлению об истории идеи, она не может и не должна сводиться к «пересказу», который, если честно, все равно невозможен.