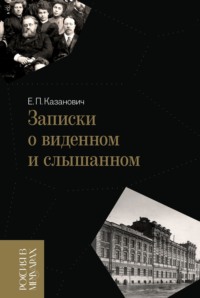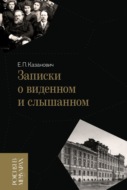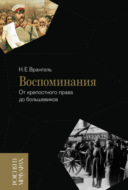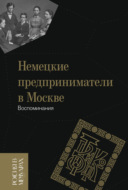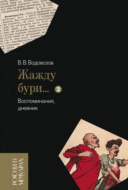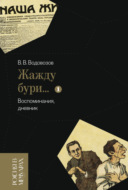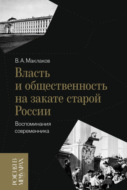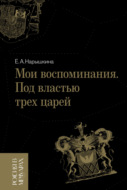Kitobni o'qish: «Записки о виденном и слышанном»
УДК 821.161.1(091)«1912/1923»
ББК 83.3(2=411.2)53
К14
Евлалия Павловна Казанович
Записки о виденном и слышанном / Евлалия Павловна Казанович. – М.: Новое литературное обозрение, 2025. – (Серия «Россия в мемуарах»).
Серия выходит под редакцией А. И. Рейтблата Подготовка текста, предисловие, комментарии и аннотированный указатель имен А.В. Вострикова
Евлалия Павловна Казанович (1885–1942) стояла у истоков Пушкинского Дома, в котором с 1911 года занималась каталогизацией материалов, исполняла обязанности библиотекаря, помощника хранителя книжных собраний, а затем и научного сотрудника. В публикуемых дневниках, которые охватывают период с 1912 по 1923 год, Казанович уделяет много внимания не только Пушкинскому Дому, но и Петербургским высшим женским (Бестужевским) курсам, которые окончила в 1913 году. Она пишет об известных писателях и литературоведах, с которыми ей довелось познакомиться и общаться (А. А. Блок, Ф. К. Сологуб, Н. А. Котляревский, И. А. Шляпкин, Б. Л. Модзалевский и многие другие) и знаменитых художниках А. Е. Яковлеве и В. И. Шухаеве. Казанович могла сказать о себе словами любимого Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…»; переломные исторические события отразились в дневниковых записях в описаниях повседневного быта, зафиксированных внимательным наблюдателем.
На 1-й ст. обложки: Групповая фотография преподавателей и слушательниц ВЖК. 1907 (?). Фрагмент; Здание С.-Петербургских высших женских курсов. 10-я линия Васильевского острова, д. 31–35. 1910-е. На 4-й ст. обложки: Фото Е. Казанович. Начало 1900-х гг.
ISBN 978-5-4448-2832-8
© А. В. Востриков, состав, вступ. статья, комментарии, 2025 © Ю. Васильков, дизайн обложки, 2025 © OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Евлалия Казанович и ее «Записки о виденном и слышанном»
Биография Евлалии Павловны Казанович не содержит ярких событий. Она родилась в 1885 г. в Могилеве в обедневшей дворянской семье. Отец, Павел Иларьевич Казанович, ничего не добился ни в учебе, ни в службе по судебному ведомству, ни в ведении хозяйства, ни в творческих занятиях; он был дважды женат и имел 10 детей. Евлалия была из младших; к тому времени, когда она окончила Могилевскую женскую гимназию (1902), семья, находившаяся на грани распада, уже лишилась последних владений и жила нерегулярными адвокатскими гонорарами отца и такими же ненадежными заработками матери в модной мастерской. Евлалия была образованна и недурна собой. По логике жизни такой девице надлежало выйти замуж за какого-нибудь могилевского чиновника или помещика, желательно побогаче, как ее тезке – героине пьесы А. Н. Островского «Невольницы»1. Нашлись и кандидаты на роль мужа, однако дело не устроилось. Лель (это поэтическое имя она предпочитала детскому Ляля) была далека от практических расчетов; с детства не зная ни роскоши, ни обычного достатка, от бытовой неустроенности она привыкла скрываться в мире фантазий; сначала это были пампасы, заимствованные из романов Майн Рида, а потом – Петербург и Высшие женские курсы. В 1905 г. ей удалось преодолеть отговоры матери, она отправила документы и была зачислена на первый курс.
С.-Петербургские высшие женские курсы, известные также под своим неофициальным названием – Бестужевские, были основаны в 1878 г. и за прошедшие годы превратились в полноценный женский университет, что и было неоднократно отмечено на широко отпразднованном в 1903 г. 25-летии. Однако в 1905 г. нормальной порядок был нарушен: весенний семестр на курсах, как и в других высших учебных заведениях, не состоялся из‑за революционных волнений, и хотя летом прием на первый курс был проведен в обычном порядке, но осенью, уже в середине октября, занятия снова были остановлены и более не возобновлялись до конца учебного года. Начавшееся с такой вынужденной задержки пребывание Казанович на курсах затянулось на 8 лет. За эти годы она пережила увлечения математикой2, потом философией и психологией и пришла к русской литературе; ученье из возвышенной мечты превратилось в обременительную рутину. 19 мая 1913 г. она записала в дневнике: «…окончила курсы. Ну и что же! Ничего не изменилось: мир стоит по-прежнему, и я сама не стала ни на каплю гениальнее, чем была. Разве цена за вход на всякие выставки и увеселения прибавилась <…>. Скучно!..»
К этому времени у Евлалии Павловны уже появилась новая жизнь. Еще в 1911 г. она обратилась за помощью к Н. А. Котляревскому, чьи лекции на курсах усердно посещала, и тот предложил ей для заработка писать библиографические карточки на книги, предназначенные для Пушкинского Дома. Собственно, никакого Дома тогда еще не было – был проект создания некоего национального музея великого поэта. Начавшие поступать пожертвования (в том числе книги) аккумулировались в Академии наук; их описание и приведение в порядок и были поручены Казанович. И сама работа, и атмосфера Академии, и причастность к высокой науке и имени Пушкина пришлись ей по душе. На ее глазах (и при ее посильном участии) Пушкинский Дом прирастал материалами (книжными, архивными, музейными), обретал самостоятельное лицо, постепенно превращаясь в тот музейно-исследовательский комплекс, каким мы знаем его сейчас. В первые годы статус Казанович (как и всего Пушкинского Дома) был достаточно неопределенным, формально она считалась «за штатом», и в годы войны, а потом революции пришлось искать должности с окладом и продовольственными карточками. Помогли новые академические знакомства: в 1916–1917 гг. Казанович служила в архиве Министерства народного просвещения, с 1918 г. – в Петроградском бюро статистики труда, в 1919 г. – в Театральном отделе Наркомпроса, не оставляя своих прежних «внештатных» занятий. В июле 1919 г. был утвержден штат Пушкинского Дома; Казанович была принята на службу и смогла отказаться от прежних совместительств. Последующие десять лет она исполняла обязанности библиотекаря, помощника хранителя книжных собраний (с января 1921 г.), а затем научного сотрудника II разряда Рукописного отдела (с апреля 1922 г.); за эти годы она подготовила несколько статей и архивных публикаций и выпустила две книги: «Д. И. Писарев: (1840–1856 гг.)» (1922) как автор и «Урания: Тютчевский альманах. 1803–1928» (1928) как редактор-составитель.
При начале «академического дела» Казанович была арестована, с 3 октября по 25 ноября 1929 г. содержалась в Доме предварительного заключения, а после освобождения (без предъявления обвинений) сразу же уволилась из Пушкинского Дома по собственному желанию. В последующие годы она работала в библиотеках Главного геолого-разведочного управления (1930–1931), Государственного гидрологического института (1932), Научно-исследовательского института гидротехники (1933), а затем отказалась от постоянной службы и жила литературным трудом: готовила статьи и публикации, составила и прокомментировала для «Библиотеки поэта» том стихотворений Каролины Павловой (1939), перевела сборник статей Ромена Роллана «Над схваткой» (1935) для собрания его сочинений. Научной степени Казанович не имела; собственно, и свидетельство об окончании Высших женских курсов (которое она оформила только в 1919 г.) имело условное значение, так как государственных экзаменов она не сдавала и диплома единого государственного образца не имела. В конце 1930‑х гг. она хлопотала о вступлении в Союз писателей (сохранились рекомендации Б. М. Эйхенбаума, Б. В. Томашевского и И. А. Оксенова3), но безуспешно. В ноябре 1940 г. (то есть по достижении 55-летнего возраста) Казанович была назначена академическая пенсия (ходатайство было поддержано академиками С. И. Вавиловым, И. Ю. Крачковским и С. Г. Струмилиным4). После начала Великой Отечественной войны осталась в Ленинграде; 22 сентября 1941 г. оказалась под завалом во время бомбежки, лежала в госпитале; в этом завале погибли все ее личные документы, в том числе и пенсионная книжка, с хлопотами о восстановлении которой связаны последние сохранившиеся документы. Е. П. Казанович умерла от голода в январе 1942 г.; место захоронения неизвестно.
Евлалия Павловна прожила очень одинокую жизнь. Со времени переезда в Петербург она всегда стремилась к обособленности, тяготилась периодами совместной жизни с матерью, довольствовалась регулярными встречами с младшим братом Платоном и, в поездках на родную Могилевщину, – со старшим, Дмитрием. И отец, умерший в 1908 г., и остальные братья и сестры, умершие или разъехавшиеся по стране, остались для нее частью детских воспоминаний, вместе с детством ушедших в прошлое. После революции из всей доступной родни осталась только мать, и ни о какой близости уже не шло речи; о присутствии матери в петроградской квартире летом 1923 г. мы узнаем из случайного упоминания, но когда и откуда она приехала – неизвестно. Своей семьей Казанович не обзавелась, романов не заводила, ухаживания не поощряла, в знакомствах держала дистанцию. Свои отношения с ближайшими подругами по курсам – Ольгой Спиридоновной Эльманович (в дневнике фигурирующей под загадочным именем Lusignan) и Марией Андреевной Островской – она сама называла «чисто интеллектуальной дружбой», подразумевая отсутствие близости душевной. После расставания с этими подругами юности (Эльманович в 1917 г. покинула Петроград, примерно с этого же времени стало сложнее общаться с Островской, а к середине 1920‑х гг. ее психическая болезнь стала необратимой) Казанович осталась совсем одинокой, но это, видимо, ее тяготило гораздо меньше, чем принудительная близость. Не зря она вслед за братом называла себя на белорусский манер «одынцом».
При этом в повседневной жизни Казанович была вполне общительной, круг ее знакомств был довольно широк, от могилевских землячек и бестужевок всех возрастов и выпусков до сотрудников Академии и непосредственно Пушкинского Дома, товарищей по отдыху в санатории Дома ученых и спутников на концертах в филармонии. Однако по-настоящему искренней она была только наедине со своим дневником.
Евлалия с детства что-нибудь писала: стихи, романы, рассказы. Сочинительство было частью большой мечты о великом предназначении и предполагало в первую очередь поиск формы для реализации неуемной страсти самовыражения. Жанр дневника актуализировался только после переезда в Петербург и нача́ла более или менее самостоятельной жизни. Это были не столько дневники в точном значении слова, сколько тетради для записи умных мыслей и впечатлений, заполняемые по заранее установленной программе и имеющие хронологическую фиксацию записей. Начатая 11 января 1906 г. тетрадь предназначалась преимущественно для размышлений на различные волнующие темы общего характера: о женской доле, об упадке искусства, о правах гениальной личности и т. д. и т. п., иногда в связи с недавно прочитанными книгами (Ницше, Шопенгауэра, Достоевского и др.); упоминания живых людей редки, описания реальных событий единичны; записи, иногда с большими перерывами в хронологии, велись до 29 октября 1910 г.5 Параллельно 4 декабря 1906 г. была заведена тетрадь с заглавием на титульном листе «О себе самой в последовательности своей жизни», посвященная самоанализу и пополнявшаяся еще менее регулярными записями до 1909 г. Поездке в Москву весной 1909 г. на открытие памятника Н. В. Гоголю было посвящено несколько отдельных дневниковых страниц. 18 мая 1910 г. была начата тетрадь, получившая заглавие «На курсах: (1905 – )», однако после развернутого (на 11 страницах) предисловия о значении женского образования продолжения не последовало. Наконец, 17 апреля 1911 г. Казанович начала последнюю версию своего дневника, выведя на титульном листе заглавие «Записки о виденном и слышанном» и обозначив в эпиграфе программу словами пушкинского Пимена: «Описывай, не мудрствуя лукаво, / Все то, чему свидетель в жизни будешь». Этот дневник она вела более 12 лет, сохраняя найденную общую интонацию, не нарушаемую даже большими перерывами6. Постепенно в нем укреплялась преемственность повествования, накапливались внутренние перекрестные ссылки. Вместе с тем в записях 1920‑х гг. все чаще проявляется усталость от дневниковой формы; не случайно в начале 1923 г. Казанович начала новый проект (подробнее о нем ниже), пытаясь в течение нескольких месяцев параллельно писать «в две руки». «Записки…» заключаются в четырех одинаковых тетрадях в черной дерматиновой обложке. Последняя запись, датированная 9 августа 1923 г., сделана на последних листах четвертой тетради; далее на обложке следует приписка, сделанная не раньше 1924 г. и очень напоминающая послесловие. А вот начать новую тетрадь, по-видимому, уже не хватило сил.
Именно этот текст, содержащийся в четырех тетрадях7, мы предлагаем читателю.
«Записки…», в отличие от предыдущих опытов, Казанович пыталась строить в традициях дневникового жанра, на что указывают и заглавие, и эпиграф, и упомянутые буквально на первых страницах литературные ориентиры – дневники Марии Башкирцевой и Елизаветы Дьяконовой. Значительная часть записей посвящена повседневной жизни, взаимоотношениям с родственниками, текущим занятиям, актуальным литературным, театральным и музыкальным впечатлениям. Однако «Записки…» лишь в незначительной степени можно считать хроникой совершенных действий и состоявшихся встреч. Казанович неоднократно называла свои записи «дневником души», подразумевая, что фиксации должна подвергаться не «пошлая» рутина низкого быта, а только те события, которые произвели впечатление, вызвали в душе определенный отклик, чувства или мысли. Собственно, именно эти впечатления и отклики и составляли настоящую жизнь неповторимой и прекрасной души автора, они подлежали записи и должны были в итоге составить ее истинный портрет для потомков.
Такое отношение объясняет многие особенности «Записок…». Неприхотливая в быту, Казанович уделяла ему совсем немного внимания и практически всегда – как поводу для каких-то по-настоящему важных для нее наблюдений или мыслей. Так, холод в комнате зимой 1911–1912 гг. стал основой для довольно едких замечаний о мещанском скупердяйстве хозяев, а стоптанные сапоги летом 1920 г. послужили наглядным примером бескорыстной преданности Пушкинскому Дому. Как она одевалась и где покупала одежду, что ела, что курила – нам приходится чаще всего только догадываться на основании случайных упоминаний. Равнодушная к религии, не имеющая сколько-нибудь последовательных политических убеждений, Казанович и эти стороны жизни оставляла на заднем плане. Необычайное воодушевление при начале мировой войны («Кошмар! Вихрь! Водоворот!» и т. д. – запись от 18 августа 1914 г.) сменилось раздражением и утратой интереса, как только выяснилось, что на роль Жанны д’Арк и даже кавалерист-девицы ее никто не ждет, а простое обучение на курсах медицинских сестер внимания не заслуживает. И осенью 1914 г., и потом в 1917 г. Казанович несколько раз пыталась разделить всеобщий ажиотаж, но не находила в себе заметного отклика и откатывалась к привычному интеллигентскому скепсису в отношении какой бы то ни было власти. Перепады настроения она привычно объясняла циклотимией, познания о которой приобрела на лекциях С. А. Суханова по психопатологии.
Казанович с детства считала себя принадлежащей к миру искусства. Именно искусству и людям искусства – во всевозможных формах его проявления – посвящена значительная часть дневника. С детства она любила музыку, участвовала в любительском музицировании сначала дома, а потом и в Петербурге, хотя и все меньше и меньше (сожалея об украденной скрипке в августе 1923 г., она писала, что почти не брала ее в руки в прошедшем году и новой уж наверное не купит). Но и сократив собственные занятия, она сохранила живой интерес к музыке и была постоянным посетителем концертов, о которых неоднократно писала, например в августе 1913 г., вспоминая встречу с Н. И. Забелой-Врубель на Бестужевских курсах, или 25 апреля 1923 г., описывая выступление М. В. Юдиной (впоследствии Казанович посчастливилось лично познакомиться с пианисткой и коротко общаться с ней в середине 1920‑х гг. – к сожалению, это осталось за пределами дневника).
Регулярно бывала Казанович и в театре, и на страницах «Записок…» можно найти ее отзывы о спектаклях Александринского театра и о гастролях МХТ.
С особым пристрастием относилась Казанович к изобразительному искусству. Через младшего брата Платона, учившегося в Высшем художественном училище при Академии художеств, она познакомилась с его товарищами, учениками Д. Н. Кардовского и Я. Ф. Ционглинского. Летом 1911 г. она присоединилась к ним в поездке на Волгу на этюды и с тех пор сохранила установившиеся короткие отношения. Дневник с собой она не взяла, но воспоминания о привольной жизни в Бармине и портреты членов «барминской компании», а потом и рассказы о последующих встречах с совсем еще молодыми В. И. Шухаевым, А. Е. Яковлевым, В. А. Локкенбергом, Ф. А. Фогтом, А. М. Соловьевым, М. Я. Кацем и др. регулярно появлялись на страницах «Записок…».
Но, конечно же, на первом месте стояла литература, и тут дневник дает возможность увидеть не только сам по себе интерес, но и динамику его развития. Непоколебимые привязанности (Пушкин, Шекспир, Гоголь, Достоевский) дополняются новыми знакомствами, чаще мимолетными, но иногда перерастающими в крепкую дружбу (Тютчев, Писарев). Высокомерная девица, в 1906 г. готовая с чужих слов сокрушаться о декадентстве, падении искусства и нравственности8, спустя пятнадцать лет восторгалась Блоком и признавала будущее за Маяковским, впрочем тут же оговорив, что еще недавно сочла бы такие слова «ересью» (запись от 21 августа 1921 г.).
Но творение неотделимо от творца, и жгучий интерес Казанович вызывала фигура «литератора в жизни». Читая книгу, она часто представляла себе ее автора, додумывала его характер и привычки. Увидев первый раз писателя вблизи (А. М. Ремизова в гостях у И. А. Шляпкина в мае 1912 г.), она рассматривала его не то как небожителя, не то как заморское чудо и далеко не сразу подобрала ключ: Квазимодо. А уже потом читала ремизовскую прозу, пытаясь через это найти подход и к ней, но безуспешно. А вот спустя два года в Луге милый и неумный болтун Луговой в ее сознании вполне совпал со своими неталантливыми многословными, но добродушными романами. И в дальнейшем она все время искала сходство писателя и его произведения, будь то психопатология Сологуба и его героев или личность Блока и его поэзия. Так же и с другими писателями и поэтами, прочитанными или встреченными, – Казанович старалась определить их по своей внутренней классификации, найти ключ, описать, дать название и именно так понять литератора и выстроить собственное отношение к нему. Если же осмысление не наступало и отношение не возникало, то человек (книга, событие) до страниц «Записок…» не доходили, оставаясь неувиденными и неуслышанными, – как, например, Анна Ахматова, о встрече с которой не написано ни слова.
Для Казанович всегда была важна грань между творчеством и ремеслом. За последним она признавала практическую необходимость и общественную значимость, но сама по возможности чуждалась (вообще, в практической жизни она была неумехой, например так и не научилась печатать на машинке и в случае необходимости либо обращалась к знакомым с просьбой «отстукать», либо переписывала текст печатными буквами). Но по-настоящему значимым для нее было творчество. Во многом такое отношение распространялось и на науку. И А. И. Введенский, и А. С. Пругавин, и И. А. Шляпкин, и, конечно же, Н. А. Котляревский были для Казанович в первую очередь творческими личностями, не двигающими вперед некую абстрактную науку, а непосредственно обращающимися к своим читателям или слушателям со страниц книг, с кафедры или за чайным столом.
Очень важное место в жизни Казанович занимали Бестужевские курсы. Не случайно в написанных спустя много лет воспоминаниях Н. В. Измайлова, едва ли не единственном дошедшем до нас «словесном портрете» нашей героини, это особо подчеркнуто: «Высокого роста, суровая на вид, уже немолодая девица, типичная старая “бестужевка”…»9 Для многих слушательниц курсы были больше, чем простым учебным заведением. Для мужчин учеба в университете была первым этапом карьеры, за выпускным свидетельством и дипломом следовало приобретение чинов, ученых званий и степеней; для женщин же были предусмотрены две профессии: домашняя наставница и домашняя учительница, дорога в официальную науку, университетскую или академическую, для них была закрыта (только в 1911 г. женщинам разрешили приобретать ученые звания наравне с мужчинами, и воспользоваться этим успели только единицы). Но парадоксальным образом тем острее они ощущали себя не будущими профессорами и академиками, а действующими курсистками, приобщившимися ко всей полноте студенческой жизни без приспособленческих оглядок на будущее. Важно было и то, что курсы, в отличие от императорских университетов и проч., являлись учреждением частным; в понимании многих – «нашим общим» делом, как бы res publica, пусть под внешним тираническим надзором Министерства народного просвещения. Корпоративная сплоченность бестужевок была очень высока и сглаживала различия в возрасте и происхождении. Казанович чувствовала себя частью большого бестужевского клана. 21 апреля 1912 г. она записала (обращаясь практически к нам): «Помню, как приятно было читать в дневнике Дьяконовой всякие упоминания о Курсах и как досадно было, что их так мало <…>. Но какую-то обязанность перед Курсами я чувствую на себе, и потому хоть вкратце должна упомянуть о том, что и как сегодня было. Почем знать! Может быть, когда-нибудь после моей смерти и эти записки попадут в печать (не боги же, в самом деле, горшки лепят!), и стыдно мне будет, что в них так мало отведено когда-то милым мне Курсам, моей Alma Mater». Этому чувству ответственности перед курсами мы обязаны многими страницами описаний бестужевской жизни и портретами бестужевских персонажей.
Еще более важную роль в жизни Казанович сыграл Пушкинский Дом. О ее службе в этом учреждении мы уже сказали выше. Добавим, что в отличие от Бестужевских курсов, на которых она была одной из семи с половиной тысяч выпускниц, в Пушкинском Доме она стала первым наемным работником (для Н. А. Котляревского и Б. Л. Модзалевского пушкинодомские заботы были частью общих должностных обязанностей по Академии); именно руками Казанович пушкинские материалы обустраивались в отведенных уголках конференц-зала и на лестнице главного академического здания, а потом она участвовала и в освоении особняка Абамелека на Миллионной и помещений старого Гостиного двора на Тифлисской (переезд Пушкинского Дома в нынешнее здание (1927) остался за пределами дневника). Казанович стала и первым историографом Дома, составив очерк его возникновения (1914). 16 января 1923 г. Казанович записала: «Не знаю, посвятит ли кто-нибудь когда-нибудь несколько слов моему пребыванию в Пушкинском Доме, и что в них будет сказано обо мне…» Сомнения напрасны, о ее участии не забыли, и дневниковые записи, пусть субъективные, с нескрываемыми симпатиями и антипатиями, дают возможность увидеть историю Пушкинского Дома непосредственно ее глазами.
Большую часть своей взрослой жизни Казанович прожила на очень ограниченном пространстве. От здания Бестужевских курсов на 10‑й линии Васильевского острова всего несколько кварталов до университета на Университетской набережной, на этой же набережной чуть дальше к Стрелке – Академия наук, а в другую сторону, к Николаевскому мосту (в советское время Лейтенанта Шмидта, сейчас Благовещенский) – Академия художеств; здесь же, на Васильевском острове, она старалась снимать комнаты. Совсем недалеко, на Петербургской стороне, за Биржевым мостом на Зверинской улице, квартира А. С. Пругавина, у которого Евлалия Павловна бывала на журфиксах. Если от Стрелки перейти Неву по Дворцовому мосту, то почти сразу за Эрмитажем будет Миллионная, на которой располагались и особняк Абамелека, отданный Пушкинскому Дому, и последняя квартира Казанович. А если от Дворцовой площади выйти на Невский, то чуть дальше будут и Публичная библиотека, и здание Министерства народного просвещения, и Александринский театр. Практически все – в пешей доступности, по привычным улицам и переулкам, в крайнем случае две-три остановки на трамвае. Выходы же за пределы этого пятачка становились путешествиями, настоящими экспедициями – именно так описаны поездки в Москву, в могилевские Озераны и в немецкую Новосаратовскую колонию и т. д.
Мы отметили наиболее важные темы и сюжеты, отразившиеся в «Записках…». Вместе с тем замкнутость и неуживчивость Казанович, доходившие до скрытности (или «суровости», по выражению Измайлова), компенсировались врожденным любопытством и вполне осознанно тренируемой наблюдательностью. Вместе со сквозными темами на страницы дневника попадали происшествия, казалось бы, случайные, вместе с постоянными героями – эпизодические персонажи, среди которых были в том числе и известные деятели, такие как В. Г. Короленко, Н. В. Чайковский, Ф. И. Щербатской и др. Всё вместе образовало целостную картину жизни интеллигентной женщины петроградского периода. А если учесть индивидуальные пристрастия, акценты и фигуры умолчания – то и достаточно полную.
Однако относиться к «Запискам…» как к документальному источнику следует с чрезвычайной осторожностью. С раннего детства мечтая о будущем литературном успехе, Казанович писала дневник как литературное произведение, видя в нем в первую очередь репрезентацию своей личности, открытую для взгляда потомков. Главным же достоинством человеческой души она считала самобытность, глубину переживаний и оригинальность мысли. Присоединение к общему мнению не заслуживает внимания; только несогласие с «пошлой толпой» является истинным проявлением неповторимой личности и может быть интересным. Дневниковые описания часто подстраиваются под уже сформированную точку зрения (свою) или же, особенно если речь идет о публичных или тем более общественно значимых событиях, полемически отталкиваются от чужих мнений о нем, и выявить эти координатные системы не всегда легко.
Вот, например, Казанович с опозданием на 10 дней прочитала о крушении «Титаника» (запись от 14 апреля 1912 г.):
«Боже, Боже, какой ужас! Я сегодня только прочла о гибели “Титаника”!
Какой кошмарный ужас! И я живу на свете, не зная, что делается вокруг.
Ужас, и вместе красота, жуткая, безумная, величественная. При чтении заметки в “Новом времени” эта картина сама собой нарисовалась перед глазами, со всей силой и яркостью действительности. О, если бы силы изобразить ее так, как видишь и чувствуешь, со всей кровавой любовью и торжественной осанной погибшим!
Дико, чудовищно то, что я говорю, но как это поднимает душу. Тут не наслаждение зрелищем; тут – страдание, глубокое, сильное, но и красивое, величественное, как страдание при чтении или созерцании безумного короля Лира или Эдипа».
Вырванная из контекста, запись выглядит довольно странно, хотя и действительно оригинально. Однако отдельные упоминания позволяют увидеть в ней «общие места» отношения Казанович к жизни и к своему дневнику. Газета «Новое время» – символ пошлого общественного мнения; Казанович бы ее в руки не взяла, но по бедности и занятости не имеет возможности читать другие газеты, а эту иногда берет у квартирной хозяйки; номер с сообщением о гибели «Титаника» оказался у нее в руках только потому, что на обороте страницы помещено сообщение о чествовании профессора И. А. Шляпкина в университете. Упоминание короля Лира – это отзвук усиленной подготовки к экзамену по Шекспиру, которой Казанович была занята с января 1912 г., и культивированного восторженного отношения к драматургу. Наконец, слова «О, если бы силы изобразить» указывают нам на желание Казанович попробовать силы в драматургии, о чем она упоминала и до, и после. Таким образом, предметом записи являются творческие планы и пристрастия Казанович, а трагедия «Титаника» выступила только в роли повода для высказывания.
Приведем еще пример. 9 мая 1912 г. Казанович вместе с группой курсисток и других гостей побывала по приглашению Шляпкина в его усадьбе в Белоострове, превращенной им в музей русской старины. В описании этой поездки (записи от 10 и 12 мая 1912 г.) при одном из первых упоминаний Шляпкин назван «хозяином ласковым» (с выделением кавычками). Именно так в сказке «Аленький цветочек» С. Т. Аксакова называется хозяин лесного дворца, «зверь не зверь, человек не человек, а какое-то чудище страшное», под ужасной личиной которого скрывается заколдованный принц. Это выражение Казанович подхватила у самого Шляпкина, который к этому времени уже достаточно давно пользовался аксаковским метатекстом для самоописания своего белоостровского житья (в этом можно убедиться, например, по сохранившемуся альбому записей посетителей). Для Казанович эта опознанная (с подсказки или самостоятельно) цитата добавилась к сложившемуся за пять лет до этого (и записанному в раннем дневнике) мнению о Шляпкине, основанному в первую очередь на его чрезвычайной, болезненной грузности: «Шляпкин, мне кажется, есть наиболее совершенное воплощение жизни, при этом жизни исключительно земной <…>. Земная красота сочетается в нем с земным уродством, земная сила и мощь – с земной слабостью и недостатками. Действительно, что может быть уродливее этой ужасной фигуры, этого калечества, и вместе с тем, как хороша голова на этом безобразном теле!»10 Таким образом, литературный метатекст, получивший поддержку на разных уровнях, в том числе на уже утвердившемся личном мнении, распространился не только на образ «хозяина ласкового», но и на весь хронотоп поездки: в описании подчеркнута отдаленность усадьбы от человеческого жилья, гости в отсутствие хозяина свободно разгуливают по дому и рассматривают невиданные сокровища, на столах сами собой появляются яства (Казанович «не заметила» белоостровской хозяйки С. А. Фогельгезанг, которой другие посетители после этого визита передавали через Шляпкина благодарность за угощение) и т. д. Хозяин появляется «в красной с пестрым белым горохом сатиновой блузе ниже колен», а его переодевание к обеду в крахмальную сорочку и европейский пиджак представлено как волшебное превращение. И заканчивается этот сказочный вечер раздачей подарков… Естественно, речь в данном случае (и в ряде подобных) идет не о фактической деформации описываемых событий, а об эмоциональной коррекции их восприятия, что не менее существенно при использовании текста как мемуарного источника.