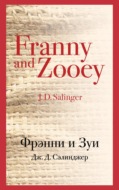Kitobni o'qish: «Эликсиры дьявола: бумаги найденные после смерти брата Медардуса, капуцина»
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Die Elixiere des Teufels
© Микушевич В., перевод на русский язык, комментарии, 2023
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023
Предисловие издателя
Хорошо бы, любезный читатель, увлечь мне тебя туда, под сень сумрачных платанов, где я впервые прочитал таинственную историю брата Медардуса. Ты бы разместился со мною на той же самой каменной скамье, полускрытой пахучим кустарником и многокрасочным пламенем цветов; ты бы, подобно мне, с неподдельным вожделением вглядывался в голубые горы: они диковинными виденьями высятся перед нами там, над пространной солнечной долиной, куда ведет аллея. Но ты обернулся бы и узрел бы не далее как шагах в двадцати позади нас, готическое здание, чей портал роскошно изукрашен статуями. Сквозь мрачные ветви платанов взирают на тебя образа святых светлыми, поистине живыми очами; это неувядаемые фрески, преславное убранство широкой стены. Солнце пламенеет багрянцем над горным хребтом, веет вечерний зефир, всюду отрадное оживление. За кустами и за деревьями журчат и лепечут чудные голоса; они как будто нарастают и нарастают, доносясь издали мелодическим рокотом органа. Строгие мужи в свободных складчатых облачениях, возводя горе боголюбивые взоры, безмолвно движутся под сенью сада. Неужто ожившие образа праведников покинули высокие карнизы? Ты овеян вещей жутью причудливых сказаний и преданий, запечатленных там, как будто баснословное творится и происходит пред тобой в непреложной очевидности. Это предуготовило бы тебя, и ты читал бы жизнеописание Медардуса, и в невероятнейших его наитиях открылось бы тебе нечто большее, чем безудержное мельтешение лихорадочных грез.
А поскольку ты, любезный читатель, узрел бы уже образа и монашескую обитель, не было бы нужды присовокупить, что мы с тобою в монастыре капуцинов близ Б., а точнее, в прекраснейшем его саду; вот куда завлек я тебя.
В этом-то монастыре я и гостил однажды несколько дней, и достойный настоятель обратил мое внимание на реликвию, сберегаемую в архиве: бумаги усопшего брата Медардуса, и немало усилий потратил я, пока не преодолел щепетильность настоятеля, не склонного допускать меня до них. Собственно говоря, по мнению старца, эти бумаги лучше было бы предать огню. Боюсь я, что и ты, любезный читатель, признаешь правоту настоятеля, когда в твоих руках окажется книга, скомпонованная мною из этих бумаг. Но если ты наберешься смелости неукоснительно сопутствовать брату Медардусу в его блужданиях из монастырской галереи в галерею, из кельи в келью и в миру, пестром – пестрейшем, – вынося вместе с ним все жуткое, ужасное, несуразное и анекдотическое, что было в его жизни, тебя, быть может, очаруют неисчерпаемо переменчивые картины, возникающие в этой камере-обскуре. Не исключено даже, что обманчивая зыбкость начнет вырисовываться в закругленной отчетливости для наблюдательного взора. Ты постигнешь детище темной судьбы, сокровенный росток, образующий мощное растение, чтобы оно буйствовало в безудержном изобилии жизненных сил, производя тысячи стеблей, пока изодного цветка не вызреет плод и не вберет в себя все жизненные соки, убивая сам росток.
Когда я с подобающим усердием прочитал бумаги капуцина Медардуса, а это потребовало немалого прилежания, ибо у покойника был почерк мелкий и неразборчивый, как у истого монаха, я предположил: то, что мы склонны нарекать мечтами и бреднями, позволяет нам постигнуть потаенную нить, которая пронизывает всю нашу жизнь, скрепляя все ее подробности, однако не гибельна ли готовность обретать в таком постижении могущество, дерзновенно разрывающее эту нить, чтобы тягаться с непостижимой властью, помыкающей нами.
Быть может, любезный читатель, и тебя не минует подобный опыт, а у меня имеются весьма существенные основания желать его тебе.
Часть первая
Раздел первый
Годы детства. Монашество
Моя мать всегда умалчивала о том, какова была жизнь моего отца в миру, но, когда моя память бережно перебирает все то, что я сызмальства слышал о нем от нее, я готов предположить, что он преуспел и в науках, и в житейском благоразумии.
Мать повествовала о своей минувшей жизни довольно сбивчиво и бессвязно, так что далеко не сразу начал я уяснять, что благополучие моих родителей, основанное на немалом богатстве, сменилось удручающей, горчайшей бедностью, что мой отец, совращенный самим Сатаной, пал до мерзкого кощунства и смертного греха, однако прошли годы, и его просветила Божья благодать, и он вознамерился искупить содеянное паломничеством ко Святой Липе1, в чужедальнюю, суровую Пруссию. Направляясь туда, изнуренная странствием, мать моя тем не менее впервые убедилась: ее многолетнее супружество не останется бесплодным, и мой отец, начинавший уже отчаиваться, воспрянул духом вопреки всей своей бедности, так как сбывалось возвещенное ему видением, когда святой Бернард2 заверил его: с рождением сына ему отпустится грех и будет ниспослано утешение. У Святой Липы, однако, моего отца постиг недуг, и чем менее щадил он себя, при всей своей немощи предаваясь изнурительной епитимье, тем неодолимее хворь брала над ним верх; он преставился, примиренный с Богом и утешенный, в миг моего рождения. С первыми проблесками сознания брезжут во мне милые образы монастыря и предивной церкви у Святой Липы. Меня убаюкивает дремучий лес, меня овевают ароматами буйные и многокрасочные цветы, колыбель моя. Святыня Благословенной не допускает вблизи себя ничего ядовитого или вредоносного; муха не смеет жужжать, сверчок не смеет стрекотать в священной тишине, где раздаются лишь умильные гимны иереев, чьи золотые кадила окуривают паломников в продолжительном шествии летучими клубами богоугодного ладана. Все еще вижу я посреди церкви ствол Святой Липы в серебряной ризе. На эту липу некогда снизошла чудотворная икона Пречистой Девы, принесенная ангелами с небес. Все еще вокруг меня и надо мной блики и лики; сияющие, красочные образа ангелов и святых на стенах и на церковном куполе. Конечно, чуднодивная обитель представлялась мне по описаниям моей матери, чья пронзительная скорбь сподобилась там благодатного утешения, но я был так проникнут этими описаниями, что мнилось, будто сам я все это узрел и изведал, хотя вряд ли моя память простирается так далеко в былое, ибо моя мать оставила со мною святое место через полтора года. Однако полагаю, будто воочию явился мне однажды наедине в церкви, где не было в тот миг ни богомольцев, ни священнослужителей, строгий образ таинственного мужа, не того ли захожего живописца, который в старину, когда церковь еще только возводили, вдруг наведался туда и, хотя его речей никто не разумел, своею ухищренной кистью в кратчайший срок предивно и пречудно расписал всю церковь и, завершив едва свое деянье, снова скрылся.
Также вспоминается мне старый паломник в странном одеянии; у него была длинная седая борода, и он часто брал меня на руки, находил в лесу пестрые мхи и камни, чтобы играть со мною, и все-таки очевидно лишь со слов матери он возник во мне как живой. Однажды я увидел у него на руках другого незнакомого младенца, моего ровесника, он был неописуемо прекрасен. Среди травы мы с ним целовались и миловались, и я не пожалел для него всех моих пестрых камешков, а он умел располагать их на земле так, что выходили разные рисунки, но рано или поздно из них все равно образовывался крест. Моя мать сидела рядом на каменной скамье, а старец, стоя позади нее, нежно и строго приглядывался к нашим детским забавам. Тут вышли из кустов некие молодчики; наряд их и вся стать говорили о том, что охота поглазеть и поразвлечься привела их к Святой Липе. Один из них увидел нас и вскричал, рассмеявшись: «Вот это да! Святое Семейство3 так и просится в мой альбом!»
Он и вправду достал бумагу, карандаш и принялся нас рисовать, однако старый паломник поднял свое чело и произнес разгневанно: «Злосчастный зубоскал! Ты метишь в художники, но ни любовь, ни вера сроду в тебе не пламенели, и не труды, а трупы косные, подобные тебе, – удел твой жалкий; отчаешься и пропадом ты пропадешь в своем убожестве, изгой опустошенный, чужой всему и всем».
Юнцы смущенно и поспешно удалились.
А старый паломник молвил моей матери: «Я пришел сегодня к вам с этим чудо-младенцем, дабы он одарил вашего сына искрою любви, но мы с ним должны вас покинуть, и, чего доброго, не видать вам больше ни его, ни меня. Вашему сыну не отказано во многих драгоценнейших дарованиях, однако его кровь заражена кипучим броженьем отчего греха, вопреки коему он способен воспарить, и тогда из него выйдет отважный воин веры. Воспитывайте его для духовного звания!»
Сколько бы мать ни говорила, впечатление, произведенное на нее глаголами паломника, оставалось столь проникновенным и действенным, что слова не могли полностью засвидетельствовать его; так или иначе, она вознамерилась в будущем не препятствовать моим стремлениям и невозмутимо принять жребий, который выпадет мне волею попечительного рока, так как средства не позволяли ей помыслить о том, чтобы я удостоился воспитания, превышающего ее собственные возможности.
Возвращаясь домой, моя мать побывала в монастыре цистерцианок4, настоятельница которого происходила из княжеского рода; давняя знакомая моего отца, она обласкала мою мать; туда восходит изведанное мною отчетливо на собственном опыте. Однако все, что могло произойти с тех пор, как явился мне старый паломник (а мне о нем, действительно, напоминает мой собственный опыт пережитого; моя мать лишь повторила мне, что сказали художник и старец), до того момента, как она представила меня настоятельнице, зияет в моей памяти сплошным провалом, от этого времени не осталось ни проблеска. Я как бы опамятовался лишь тогда, когда мать занималась моим костюмом, пытаясь, насколько это было возможно, приодеть и принарядить меня. Она приобрела в городе новые тесемки, она подстригла мою обросшую головенку, она со всяческим усердием приводила меня в порядок, наставляя при этом в благочестии и в благоприличии, дабы я не ударил в грязь лицом у госпожи настоятельницы. Держась за материнскую руку, я взошел наконец по широким каменным ступеням и оказался в просторном покое, чьи высокие своды и стены были расписаны святыми образами; там узрел я княжну. Она была высока ростом и величественно прекрасна; монашеское облачение еще более возвышало ее, доводя почтение перед ней до трепета. Она вгляделась в меня с важным проницательным вниманием и спросила:
– Это ваш сын?
Голос ее, сама ее внешность – и в особенности все то невиданное, что окружало меня, высокие своды, образа, – все это так потрясло меня, что я в каком-то испуге не мог удержаться от слез. Тогда княжна как будто смягчилась, взор ее потеплел, и она произнесла:
– Что с тобою, малютка? Не я ли тебя напугала? Как зовут вашего сына, любезная?
– Франц, – ответила моя мать.
Тогда княжна вскричала, как бы пронзенная душевной мукой: «Францискус!» Она оторвала меня от пола, чтобы страстно заключить в объятия, но в тот же миг внезапная сильная боль где-то в области шеи исторгла из моих уст громкий крик, так что княжна, ужаснувшись, разжала объятия, и моя мать, совсем уничтоженная моей оплошностью, подхватив меня, не знала, как унести вместе со мною ноги. Однако княжна не отпустила нас. Оказалось, что, когда княжна прижала меня к себе, ее алмазный наперсный крест прямо-таки впился мне в шею, и ссадина покраснела и налилась кровью.
– Бедный Франц, – молвила княжна, – вижу, как тебе больно, но ведь мы с тобой помиримся, правда?
Келейница принесла сахарного печенья и сладкого вина. Робость моя прошла, и не понадобилось долгих упрашиваний для того, чтобы я храбро отдал должное сладостям, которые красавица княжна, усадив меня к себе на колени, сама клала мне в рот. Достаточно было нескольких капель сладкого напитка, неведомого мне до той поры, чтобы я воспрянул духом и оживился, как то было мне свойственно, по рассказам матери, с младенчества. Я немало позабавил своим смехом и болтовней настоятельницу и келейницу, задержавшуюся в комнате. Поныне диву даюсь, как это угораздило мою мать подвигнуть меня на рассказы о красоте моих родных мест, но я, как будто мне подсказывала высшая сила, умудрился поведать княжне о прекрасной живописи захожего безвестного мастера с такой достоверностью, словно глубочайший дух ее открылся мне. При этом я обнаружил такое проникновение в житийные тонкости возвышенного священного предания, как будто все церковные книги не только знакомы мне, но и досконально мною изучены. Не одна княжна, мать моя сама не сводила с меня изумленных очей, а я, захваченный своими речами, заносился все выше, пока наконец княжна не прервала меня вопросом: «Признайся, мой дорогой, кто тебя всему этому научил?» – и я, ничтоже сумняшеся, признался, что ненаглядный чудный младенец, явленный мне странным паломником, растолковал мне церковные образа, повторив некоторые из них сочетаниями цветных камешков, и не только выявил их смысл, но и пересказал мне многие жития святых.
Послышался звон, возвещающий вечерню. Келейница насыпала сахарного печенья в кулек и вручила его мне, к моему вящему удовольствию. Настоятельница, вставая, обратилась к моей матери с такими словами:
– Я намерена впредь опекать вашего сына, любезная, и надеюсь обеспечить его будущность.
Моя мать была так растрогана, что не могла говорить, она только с горючими слезами целовала руки княжны. Уже в дверях княжна задержала нас, снова приподняла меня, не забыв на этот раз отстранить крест, и чуть не задушила меня в объятьях, плача навзрыд, обжигая мне лоб слезами, воскликнув:
– Францискус! Останься и впредь таким же верующим, таким же хорошим!.. – В глубоком умилении я сам не мог удержаться от слез, не понимая, отчего, собственно, я плачу.
От щедрот настоятельницы вскоре наладилось наше незатейливое житье-бытье, которое мы влачили на маленьком хуторе по соседству с монастырем. Мы больше не нуждались, я приоделся и мог воспользоваться уроками священника, подпевая ему на клиросе, когда он служил в монастырской церкви.
Отрадной грезой облекает меня воспоминание о той ранней счастливой поре! Ах, как недосягаем прекрасный край, где обитают беспечность и безоблачная резвость простодушного детства, остается моя родина далеко-далеко позади меня, и между нею и мною навеки разверзлась пропасть, устрашающая взгляд. В пурпурном освещенье раннего утра я все яснее различаю дорогие мне лица, я сгораю, воспламенен разлукой, и уже как будто до меня доносятся их сладкозвучные голоса. Ах! – что это за пропасть, если сама любовь не в силах превозмочь ее в своем неудержимом полете? Разве существуют время и пространство для любви! Не витает ли она в помыслах, а где мера помысла? Однако темные тени возникают и сгущаются, тесня меня беспросветным своим натиском, и желанная даль исчезает из виду, а насущное подавляет мои порывы будничными мытарствами, и даже неизреченный пыл, самим своим страданьем скрашивающий разлуку, превращается в безнадежную убийственную пытку.
Священник был добрее доброго; к тому же он знал, как совладать с моей непоседливой мыслью, знал, как приноровить свою науку к моей натуре, чтобы я торжествовал, одерживая победу за победой.
Дороже всех на свете мне была моя мать, в княжне же я видел святую, и дни, когда мне разрешалось узреть ее, я причислял к праздникам. Я всегда намеревался толком показать ей, какой стал я теперь ученый, но стоило ей выйти и дружелюбно меня приветить, как от моего красноречия оставалось разве что с трудом выговариваемое слово, лишь бы взирать на нее, лишь бы внимать ей. Зато все, что она говорила, внедрялось в мою душу, и потом целыми днями я втайне ликовал, преображенный, и все воображал ее себе, посещая одни и те же заветные уголки. Как назвать мне то чувство, которое пульсировало во мне, когда, стоя у высокого алтаря, я ритмично раскачивал кадило, а с хоров обрушивались органные лады и, нарастая кипучим каскадом, захватывали меня, так что в божественном гимне я улавливал ее голос, нисходящий ко мне пламенеющим лучом, и все мое существо преисполнялось чаяньем Высшего – Святейшего.
Но не было для меня дня торжественнее, чем день, который предвкушал я и которому потом радовался неделями, день, о котором я никогда не мог помыслить без душевного подъема; этим днем был праздник святого Бернарда5, а так как орден цистерцианцев посвящен именно ему, в монастыре в этот день многим отпускались грехи, и такое отпущение было поистине праздничным. Уже за день до праздника множество соседей-горожан, чуть ли не вся округа, собирались у монастырской ограды, заполняя просторный луг, усеянный цветами, где веселая сутолока не прекращалась ни днем ни ночью. Не припоминаю, чтобы ненастье хоть раз омрачило праздник, совпадающий с благоприятным временем года (День святого Бернарда приходится на август). На свете не бывало зрелища красочнее. Там с пеньем гимнов шествуют богомольные пилигримы, а здесь молодые крестьяне весело льнут к расфранченным девицам; духовные лица молитвенно складывают руки, в благочестивом созерцании наблюдают пролетающие облака; горожане целыми семьями благодушествуют на траве, опустошают тяжелые корзины со съестными припасами и лакомятся вволю. Залихватские рулады, душеспасительные хоралы, пламенные воздыхания кающихся, хохот беззаботности, причитания, прибаутки, возгласы, восклицания, молитвословия разносятся на ветру чудесным, опьяняющим созвучием.
Но как только ударит монастырский колокол, шума как не бывало; куда ни посмотришь, всюду сплоченные сонмы коленопреклоненных, и в непререкаемой тишине слышится лишь невнятный говор молящихся. Но не успеет колокол отзвучать, и вот уже снова бушует красочный поток, и снова раздается гомон веселья, умолкнувшего лишь на минуту.
Сам епископ, имевший кафедру в соседнем городе, в День святого Бернарда посещал монастырскую церковь, дабы совместно с низшим духовенством отслужить торжественную мессу, а епископская капелла, разместившись поодаль от алтаря на особом помосте, увешанном драгоценными гобеленами, услаждала слух песнопениями.
И сегодня дают себя знать чувства, сотрясавшие тогда мою грудь; они не только не умерли, оказывается, они даже не поблекли и расцветают, когда моя душа оборачивается к прежнему блаженству, столь быстролетному. В ушах моих явственно звучит Gloria, исполнявшаяся тогда многократно, ибо эту композицию предпочитала княжна. Едва Gloria воспевалась епископским голосом, вскипали сильные лады хора: «Gloria in exelsis deo!»6 – не являлась ли заоблачная Gloria над высоким алтарем? – да, не воспламенялись ли к жизни чудотворные, богописные Херувимы и Серафимы, напрягая взмахами свои крепкие крыла, славословя Бога голосами и неописуемым бряцанием струн?
Всего меня облекало вдохновенное наитие молитвенного экстаза, возвращающее сквозь пламень облаков туда, в даль, откуда я происхожу, и в ароматическом лесу звучали нежные ангельские голоса, и чудо-младенец встречал меня, покидая лилейную поросль, чтобы спросить с улыбкой: «Где ты блуждал так долго, Францискус? А я тут набрал много цветов; посмотри, как они хороши, у каждого из них свои краски; и все эти цветы я подарю тебе, если ты больше никогда не покинешь меня и не разлюбишь».
После торжественной мессы монахини праздничной процессией обходили галереи монастыря и церковь; их возглавляла настоятельница в митре и с серебряным пастырским посохом7. Взор дивной жены так и светился святостью, благородством, небесным сиянием, что сказывалось и в ее осанке и в поступи. То была сама торжествующая Церковь, не отказывающая благочестивому верующему народу в своем благодатном покрове и в благословении. Когда взор ее невольно нисходил на меня, я бы с восторгом поник перед нею во прах.
После богослужения духовенство и епископская капелла приглашались под широкие обительские своды на трапезу. Некоторые лица, особо приближенные к монастырю, среди них представители городских властей и торговых кругов, также присутствовали за столом, а поскольку я снискал благоволение епископского регента, не брезговавшего моей особой, то среди приглашенных бывал и я. И если сперва все мое существо пламенело праведным богопочитанием, всецело приверженное горнему, то потом охватывало меня житейское веселье, осаждая своими пестрыми сценами. Всякие забавные истории, байки, побасенки сыпались как из рога изобилия, вызывая раскатистый хохот гостей, пока не наступал вечер и гости не отправлялись восвояси на экипажах.
Меня, шестнадцатилетнего, священник признал достойным приступить к теологическим занятиям в семинарии соседнего города, ибо я без всяких колебаний избрал для себя стезю духовного лица, что особенно пришлось по душе моей матери, так как у нее на глазах подтверждались и сбывались тайнознаменательные прорицания Паломника, в известном смысле перекликавшиеся с необычным обетованием, которого сподобился мой отец, хотя сам я об этом тогда еще не слыхивал. Мать моя полагала, что мое священничество успокоит душу моего отца, избавив ее от вечного проклятия. Княжна беседовала теперь со мною не в своей келье, а в особом покое, предназначенном для мирских посетителей, но и она укрепляла меня в моих помыслах, высоко их оценивая и заверяя, что будет снабжать меня всеми необходимыми средствами, пока я не удостоюсь духовного звания. Хотя до города было рукой подать, так что монахи могли видеть его башни из своих келий, а иные досужие горожане предпочитали пешие прогулки вокруг да около монастыря, где местность отличалась хорошими, привлекательными видами, тем не менее разлука с моей милой матерью, с благородной госпожой, моей обожаемой благодетельницей, да и с моим добрым учителем очень меня огорчила. Кто станет спорить, что каждая пядь, отрывающая нас от наших присных, уподобляется величайшему отдалению, заставляя страдать!
В княжне чувствовалось некое странное движение души, и печаль выдавала себя дрожью голоса, на прощание увещевающего меня благословением. Я получил от нее элегантные четки и крохотный молитвенник с блистательными иллюстрациями. Кроме того, она снабдила меня рекомендательным письмом к приору монастыря капуцинов; его мне надлежало, по ее словам, посетить незамедлительно и видеть отныне в нем своего наставника и покровителя.
Право же, нелегко мне назвать местоположение более привлекательное, нежели то, которое занимал подгородный монастырь капуцинов. Казалось, нет ничего краше этого восхитительного сада, откуда виднелись горы, а его протяженные аллеи, ведя от одного пышного насаждения к другому, открывали на каждом шагу новые совершенства и утехи.
Где, как не в этом саду, предстал мне приор Леонардус, когда я впервые посетил монастырь, дабы вручить ему рекомендательное письмо настоятельницы!
Благожелательный по натуре, приор обласкал меня от души, прочитав письмо, и расточил столько похвал благородной госпоже, которую знавал еще в прошедшие годы в Риме, что я просто не мог устоять перед ним.
Личность приора была, естественно, средоточием всей братии, так что не требовалось особой проницательности для того, чтобы сразу постигнуть его совершенное единение с монахами в устройстве и протекании обительской жизни: душевный мир и ясность духа, явственно сказывающиеся в самом его внешнем облике, распространялись на всю обитель. Начисто отсутствовали следы той мрачности, того отталкивающего, обособляющего, внутреннего сокрушения, которыми так часто отличаются иноческие черты. Упражнения в благочестии определялись для приора Леонардуса не столько суровостью орденских правил, сколько духовным алканием Царствия Небесного, что преображало тягостную аскезу, призванную искупить первородный грех человечества, и он так искусно возжигал в братии этот осмысленный молитвенный пыл, что на все канонически заповеданное изливались благостность и задушевность, поистине выводящие за пределы земного узилища.
Даже известное сближение с миром допускал приор Леонардус, и никто не мог отрицать, что при соблюдении подобающей меры оно не только не вредно, но, напротив, скорее целительно для монахов. Обильные пожертвования, преподносимые прославленной обители отовсюду, поощряли гостеприимство, допускающее иногда к монастырской трапезе мирских доброжелателей и благодетелей. Тогда посреди трапезной бывал накрыт длинный стол; его возглавлял приор Леонардус, а гости занимали другие почетные места. Братии же, как обычно, предоставлялся узкий стол у стены, и приборы на этом столе отличались монашеской простотой, тогда как гостям кушанья предлагались на чистейшем, отборнейшем фарфоре и стекле. Монастырский келарь, как никто другой, мастерски ублажал приглашенных, избегая при этом скоромного. О вине заботились сами гости, так что монастырские трапезы действительно способствовали непринужденному задушевному общению духовенства с мирянами, и нельзя сказать, что жизнь тех и других не выигрывала от подобного взаимодействия. Ибо заложники мирской суеты, освобождаясь от нее хотя бы на время и вступая за монастырскую ограду, где жизнь духовенства откровенно перечит их обиходу, не могли не признать под влиянием той или иной искры, западающей в душу, что их путь к благополучию и покою не единственный, и дух, возносящийся над земным прозябанием, быть может, уже здесь открывает человеку стезю, иначе недосягаемую. При этом и монахи не прогадывали; пестрый мир со всем своим кишением и мельтешением из-за монастырской стены подавал им вести, не лишние для их житейской рассудительности и благоразумия, не говоря уже о соображениях и выводах, на которые ничто другое не натолкнуло бы их. Не переоценивая земного сверх его природы, они не могли отказать человеческому образу жизни в необходимых различиях, идущих изнутри, чтобы луч духовного начала не утратил своих преломлений, без которых не останется ни красок, ни сияния.
Приор Леонардус давно и несомненно превосходил окружающих своими духовными и научными познаниями. Помимо того, что в нем видели изощренного теолога, чувствовавшего себя как дома в сложнейших материях и частенько приходившего на помощь профессорам семинарии, которые не считали для себя зазорным прибегнуть к его опыту и осведомленности, он обнаруживал светский лоск, вряд ли свойственный монастырскому затворнику. Его французская и итальянская речь отличалась изысканной беглостью, а его умудренная гибкость позволяла в прошлом употреблять его для ответственнейших переговоров. Я узнал его, когда он уже дожил до глубокой старости, но, вопреки сединам, свидетельству лет, в очах его еще вспыхивал юношеский пламень, а на устах его играла безмятежная улыбка, от которой усиливалось общее впечатление внутренней гармонии и невозмутимого лада. Он не только красиво говорил, но и красиво двигался, и даже монашеская ряса, далекая от элегантности, не только не портила его, но, напротив, удивительно подчеркивала его стройное телосложение. Я не встречал в монастыре ни одного монаха, который сам не выбрал бы своей участи, повинуясь властному внутреннему позыву и, более того, неодолимому духовному влечению, однако даже страдальца, ищущего в монастыре лишь спасительную гавань под угрозой уничтожения, Леонардус незамедлительно обратил бы к покаянию, и он вскоре успокоился бы, примирился бы с жизнью и, пребывая в земном, преодолел бы его тяготы. Такая направленность шла вразрез с традициями монашеского житья, и Леонардус набрался подобного духу в Италии, где обрядность да и вообще весь опыт религиозной жизни светлее и отраднее, чем в католической Германии. Как в церковном зодчестве сохранилось античное наследие, так луч отрадной живительной древности, кажется, проникает в сумрачное лоно христианских таинств и разливается там чудесным светом, в котором, бывало, купались боги и герои.
Я пришелся Леонардусу по сердцу, он преподавал мне итальянский и французский языки, но особенным образом влияли на мой дух многочисленные книги, которыми он ссужал меня, а также его речи. Как только семинарская наука предоставляла мне краткий досуг, я отправлялся в монастырь капуцинов, и во мне упорно усиливалось неуклонное стремление к постригу. Я признался приору в моем побуждении, но тот, не разубеждая меня, предложил все же повременить хоть бы год-другой и, так сказать, освоиться в миру. Но, хотя у меня не было недостатка в знакомствах – ими я, в основном, был обязан моему учителю музыки, епископскому регенту, – всякое общество меня расстраивало и стесняло, особенно когда присутствовали женщины, и, наверное, это обстоятельство в сочетании с предрасположением к созерцательной жизни заставило меня решительно предпочесть монастырь.
Как-то приор заговорил со мной о мирской жизни, и его слова оказались особенно значительными для меня; он углубился в предметы, слывущие скользкими, но обычная грация и непринужденность оборотов не изменили ему, так что, ничуть не нарушая приличий, он метко и без обиняков попадал в цель. Наконец он взял меня за руку, проницательно посмотрел мне в глаза и осведомился, девственник ли я.
Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо, когда Леонардус недвусмысленно спросил меня о том, что по природе своей двусмысленно, и передо мной выпрыгнула как живая в своей красочности картина, совсем уже было покинувшая меня.
Я вспомнил сестру регента; звание красавицы вряд ли пошло бы ей, но она была прелестна в расцвете своего девичества. Ее стан очаровывал стройностью и безупречной чистотой линий. Вряд ли можно было представить себе руки, грудь и плечи совершеннее, а кожу нежнее.
В одно прекрасное утро, когда я спешил к регенту, чтобы не пропустить урока, мне попалась на глаза его сестра в несколько вольном утреннем неглиже: грудь ее успела блеснуть мне почти без покрова, хотя тут же притаилась под платком, накинутым второпях, однако мой нескромный взор схватил предостаточно, слова застряли у меня в горле, во мне всколыхнулась буря неизведанных чувств, неудержимая кровь воспламенилась в артериях, и пульсацию нельзя было не слышать. Сведенная судорогой грудь не выдержала бы внутреннего давления, если бы оно не разрешилось тихим вздохом. Между тем девица, как ни в чем не бывало, приблизилась ко мне, коснулась моей руки, и вопрос ее: «Что с вами?» – навлек на меня еще худшие страдания, от которых, к счастью, избавил меня приход регента.
Никогда еще не брал я таких неверных аккордов, никогда еще не допускал в пении таких срывов. Моя набожность заставила меня счесть весь этот случай дьявольским искушением, и я вскоре торжествовал, когда моя суровая аскеза обратила в бегство лукавого противника. Теперь же проницательность приора вновь накликала сестрицу регента, и передо мной возникли ее соблазнительные прелести; меня жгло ее горячее дыхание, сводило с ума ее прикосновение; проходил миг за мигом, а мой подавленный страх неумолимо усиливался.