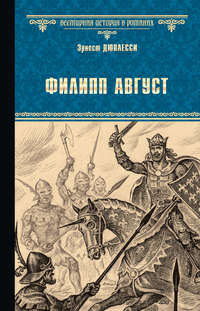Kitobni o'qish: «Филипп Август»
Печатается по изданию: Э. Дюплесси. Филипп Август. – СПб., изд. Е.Н. Ахматовой, 1870
© ООО «Издательство «Вече», 2017
* * *

Предисловие
Филиппу II (1165–1223) выпало стать одним из самых выдающихся королей Франции. Его сравнивали с Карлом Великим и римскими императорами, откуда взялось его почетное прозвище Август, то есть «Преумножитель». По мнению многих авторитетных историков, с эпохой этого государя связано превращение Франции из скопления феодальных владений в крупное государство, одно из сильнейших в средневековой Европе.
Однако начало правления Филиппа отнюдь не предвещало таких масштабных свершений. Отцом Филиппа был Людовик VII (1137–1180) – человек благочестивый, добродетельный, но слабый правитель, совершенно неспособный обуздать своевольных вассалов. А самым крупным из этих вассалов был король английский Генрих II, который помимо английского трона занимал престол герцога Нормандского, а также выступал владетелем целого ряда иных земель во Франции, за которые и приносил феодальную присягу-оммаж французскому королю. Но одно дело присяга, другое дело – реальная власть. Умный, циничный и агрессивный Генрих энергично теснил Людовика, собирая под своей властью все новые и новые владения, пока его так называемая Анжуйская империя не вобрала в себя больше французских территорий, чем их осталось у самого французского короля.
Существовала весьма вероятная возможность, что английский государь поглотит слабеющую Францию, создав под своим скипетром новую европейскую сверхдержаву. Тем более что у Людовика VII долгое время не было наследника. Поэтому день 25 августа 1165 г. стал переломным в истории, ибо именно в этот день у Людовика и его третьей жены Адели Шампанской родился сын Филипп. Мальчику так радовались, что назвали его Богоданным (Dieudonné). Впрочем, радость вполне могла оказаться преждевременной, потому что ребенком Филипп не отличался крепким здоровьем, часто болел, да и был робок и пуглив – совсем не подобающие качества в век, когда рыцарские доблесть и отвага ценились превыше всего. Незадолго до дня, в который отец решил короновать сына (Филиппу тогда почти исполнилось четырнадцать лет), юноша заблудился во время охоты в лесу и был найден еле живым от ужаса и голода только на третий день поисков. От потрясения у Филиппа началась горячка. Снедаемого страхом за жизнь единственного сына Людовика разбил паралич. Через год король умер. 18 сентября 1180 г. пятнадцатилетний Филипп II вступил на престол Франции. Молодого и неопытного юношу со всех сторон окружали враги, и его правление обещало стать бесславным и недолгим. Но вышло иначе. За внешне робкой натурой молодого короля обнаружились железная воля, гибкий ум и дальновидность.
Умело настраивая против Генриха Английского его сыновей, а затем перессорив между собой и самих братьев, Филипп сумел отвратить угрозу поглощения Франции могущественным соседом и в свою очередь начал теснить англичан, отбирая у них замок за замком, город за городом. Решающий момент наступил после смерти в 1199 г. самого опасного из его противников – Ричарда Львиное Сердце, вместе с которым Филипп ходил в Третий крестовый поход (1189–1192) и с которым долго и безуспешно воевал. Когда непобедимого Ричарда сменил на английском троне коварный и беспринципный, но слабовольный Иоанн (Джон), прозванный потомками Безземельным, ситуация коренным образом изменилась в пользу Филиппа. Тем не менее борьба шла долгая и упорная, и исход ее определился в драматической битве при Бувине 28 июля 1214 г., описанию которой отведено много страниц исторического романа Эрнеста Дюплесси.
Немало места уделено в книге Дюплесси и личной жизни Филиппа Августа, сюжету тоже весьма запутанному и интригующему. Его первая жена Изабелла де Эно умерла при родах совсем молодой, не дожив до двадцатого дня рождения. Второй брак с принцессой датской Ингеборгой оказался неудачным – король без объяснения причин отверг жену сразу после первой ночи. Вопреки тому что папа не дал разрешения на развод с Ингеборгой, Филипп женился в третий раз, на дочери маркграфа Истрийского Агнессе Меранской. Как и следовало ожидать, своеволие государя вызвало суровый гнев церковных властей. О том, как развивались события и чем они завершились, читатель узнает из романа Эрнеста Дюплесси «Филипп Август». Хотя автор, стремясь к художественной выразительности, допускает ряд отступлений от исторических фактов, в целом роман довольно точно отражает непростую эпоху в жизни французского государства и образ такой неординарной личности, как Филипп II Август, король, «подаривший французам Отечество», как выразился Морис Дрюон.
Александр Яковлев
Глава I
Теплым весенним утром 1200 года отряд всадников, блестящее вооружение и богатая экипировка которых покрылись пылью за время продолжительного пути, медленно поднимался на знаменитую гору Дор в Оверни.
Яркий блеск солнца, отражавшийся от шлемов, живописный пейзаж, многочисленные неровности дороги, то нырявшей в бездну оврага, то взбиравшейся на отвесные скалы – все помогало придать этой кавалькаде воинственный и живописный вид.
Оруженосец на крепкой лошади ехал в качестве дозорного на сто шагов впереди отряда. Эту предосторожность делали необходимой небезопасность дорог и многочисленные шайки разбойников.
Оруженосец был человек высокий и сильный, со смуглым цветом лица, с резкими чертами; черные живые глаза скрывались под густыми бровями. Зоркий взгляд, вечно настороженный, не упускавший ни малейшего возвышения на дороге, даже самого крошечного кустика, не рассмотрев его с мелочным вниманием, так же как и суровая и серьезная физиономия, выдавали в нем солдата, давно привыкшего к опасности и искусного мастера узнавать о ее приближении.
Он был экипирован с ног до головы. Но форма оружия, без всяких украшений, хотя превосходной работы, не позволяла спутать его даже издали с двумя рыцарями, которые следовали за ним. Они не сняли доспехов, но заменили шлемы большими коричневыми шапками, а руки без нарукавников и латных рукавиц позволяли видеть рукава камзолов, подбитых красной шелковой материей. Золотой крест, висевший на груди, и пальмовая ветвь на шапке показывали, что они возвращались из крестовых походов. Оба были молоды, и их наружность, гордая без дерзости, благородная и непринужденная осанка показывали высокое происхождение. Но более всего в них поражал контраст.
Один, ехавший на могучем немецком жеребце, черном как гагат, медленная и гордая поступь которого гармонировала с серьезным и сдержанным видом всадника, выглядел лет на тридцать. Высокий и сильный, он носил свое тяжелое вооружение с легкостью, выдававшей большую физическую силу. Лицо его поражало не столько правильностью черт, сколько выражением благородства и достоинства. Но красота его была затуманена меланхолией. Нахмуренные брови и неопределенное выражение взгляда указывали на ум, долго блуждавший в туманных краях мечтаний, и обнаруживали какое-то тайное горе.
Другой, несколькими годами моложе первого, казался бы почти ребенком, если бы солнце Палестины не сделало смуглым цвет его кожи, – столько было живости в его больших голубых глазах, находившихся беспрерывно в движении, веселости на его свежем лице и лукавства на губах, вечно улыбавшихся.
Он был не так высок, как товарищ, но искупал этот недостаток ловкостью движений, чем еще более отличалась арабская лошадь, на которой он ехал; и если беззаботность и любовь к удовольствиям читались на физиономии всадника, то по шраму, бледной линией проходившему по его щеке, становилось ясно, что он не щадил себя в битвах.
За ними ехал многочисленный отряд воинов, среди которых виднелись оруженосцы, которые держали копья своих господ или вели за узду их боевых коней; наконец, небольшой отряд стрелков замыкал шествие.
Уже около часа оба всадника поднимались на гору, а старший, невидящий задумчивый взгляд которого блуждал по великолепному пейзажу, ни словом не обменялся со своим спутником. Тот от скуки напевал себе под нос любовную песенку или отпускал остроту, всегда остававшуюся без ответа. Младшему наконец надоело молчание и, обернувшись к своему другу, он дотронулся до руки его, чтобы привлечь внимание.
– Возможно ли, д’Овернь, – воскликнул он полусерьезным, полушутливым тоном, – чтобы вид твоей родной страны, которую ты посещаешь после продолжительного отсутствия, не мог вырвать у тебя ни слова, ни взгляда?
Граф д’Овернь поднял голову, рассеянно осмотрелся вокруг.
– Если бы мне предсказали пять лет тому назад, что со мной случится что-нибудь подобное, я дурно принял бы это предсказание и был бы не прав… – ответил он, грустно улыбнувшись. – Я печальный спутник для тебя, мой бедный Куси!
Ги де Куси беззаботно покачал головой.
– Печаль тем хороша, по крайней мере, – сказал он, – что она не заразна, как чума. Притом ты хранишь свою так глубоко в сердце, что даже будь она заразна, угрозы бы не было. Однако, если верить доброму менестрелю короля Ричарда: «Тот, кто делится печалью, находит облегчение, хранящий же ее в сердце своем, греет там жалящую змею».
– Он, может быть, прав, но я слишком завидую твоей счастливой веселости для того, чтобы нарушать ее рассказом о моих горестях.
– Моя веселость переносила более тяжелые удары и не поколебалась, – возразил Куси.
Потом, боясь, что оскорбил своего друга, он продолжал с живостью:
– Я не хочу этим сказать, что я остался бы равнодушен к рассказу о твоих печалях. Я не так сумасброден как кажусь, Тибо, и хотя охотнее бываю на пирушке, чем на похоронах, я умею, при случае, сочувствовать горестям друга и даже подать ему хороший совет.
– Ты мне это так часто доказывал, что я не могу этого забыть, мой добрый Куси. Но все твои старания были бы бесполезны, от моего горя нет лекарств.
– Полно! – сказал Куси, слегка пожимая плечами. – Нет ни одного происшествия на свете, которое не имело бы своей хорошей стороны, и если добрый рыцарь Самсон нашел мед в пасти льва, когда охотился с королем сарацинов…
– Ты хочешь сказать филистимлян? – перебил Тибо д’Овернь, не в силах удержаться от улыбки.
– Конечно, – отвечал Куси, нисколько не смутившись. – Если он нашел мед, то я всегда нахожу в несчастьях, случившихся со мной, предмет для какого-нибудь утешительного размышления. Один из моих друзей падет на поле битвы? Я благодарю Бога, что он умер не от чумы, как такое множество других, а как храбрый рыцарь с мечом в руке. Обманет меня жид? Я утешаюсь мыслью, что на том свете он непременно попадет в ад. Изменит мне любовница? Я тотчас возьму другую; а так как я всегда нахожу новую красавицей и считаю более верной, то не сожалею о той, которая меня обманула, будь это королева.
При слове королева яркий румянец выступил на лице графа д’Оверня, который пристально посмотрел на Куси, стараясь прочесть его мысли. Но тот не приметил ничего и продолжал таким же веселым и одушевленным тоном:
– Тебе следовало бы стыдиться, Тибо, ты поверг в прах больше сарацинов, чем привешено колокольчиков к колпаку моего шута, а не можешь сладить с таким недругом как Горе.
Приняв вдруг трагическую позу, он воскликнул, снимая перчатку:
– Горе, ненависть, бедность, равнодушие, любовь! Я, вооруженный одной моей веселостью, вызываю всех вас на бой и бросаю вам мою перчатку!
Делая вид, будто бросает перчатку этим невидимым врагам, он громко расхохотался.
– Ах, Куси! – сказал Тибо д’Овернь, который не мог удержаться от завистливого вздоха, – по твоей веселости видно, что ты никогда не любил.
– Я никогда не любил? – с негодованием вскричал Куси. – Если бы кто другой, Тибо, осмелился нанести мне такое оскорбление, то клянусь, я заставил бы его раскаяться! Знай, что из всех европейских рыцарей нет ни одного, который любил бы, я не скажу больше, но чаще меня!
– Это не любовь.
– И нет ни одного, – продолжал Куси, раздраженный возражением, – который дал бы более блистательные доказательства своей страсти! Я сражался целый день в одном камзоле, не имея другого оружия, кроме копья и щита, за прекрасные глаза дочери Танкреда. Я выпил шесть бочонков вина в три дня с принцем Суабом из любви к его жене; а хорошенькая маркиза де Сиракюз до того вскружила мне голову, что для того, чтобы отдалить мой отъезд на неделю, я прятался под юбкой и чепцом ее камеристки, так что ты искал меня везде и не находил.
– Делая это, мой добрый Куси, – возразил Тибо д’Овернь, которого болтовня спутника вывела из апатии, – ты доказал не то, что влюблен, а что твое сумасбродство равняется твоей храбрости… Но где же мы? – вскричал он вдруг. – Эй, Гуго! – продолжал он, пришпорив лошадь и обращаясь к оруженосцу, ехавшему впереди, – ты знаешь эту дорогу?
– Она пустынна и безопасна.
– Я спрашиваю тебя, не боишься ли ты, что мы заблудимся?
– Не ручаюсь, так как уже шесть лет минуло, как мы проезжали по этой дороге в последний раз, а за это время нам столько приходилось странствовать, что у меня в голове все смешалось. Однако, если край не переменился, я могу уверить, что тропинка, обходящая эту скалу, ведет к церкви Сен-Павенской Богоматери.
Он указал на узкую и извилистую дорогу, которая шла к вершине отвесной скалы. Успокоенный оруженосцем, Тибо д’Овернь вернулся к спутнику. Между тем часть горы, по которой они ехали, принимала все более дикий вид. Огромные глыбы лавы то и дело возникали под ногами путешественников, и все следы зелени исчезли. Тропинка, заметно суживавшаяся, была едва доступна для лошадей, и граф д’Овернь, к которому вернулись сомнения, опять хотел спросить оруженосца, когда тот вдруг остановился и повернулся к своим господам.
– Что такое? – вскричал Тибо, подъезжая к нему.
– Мы не можем ехать дальше, ваше сиятельство, – отвечал оруженосец. – Мост, перекинутый над потоком, снят, а с обрыва спуститься нельзя.
Действительно, в этом месте дорогу пересекал поток, протекавший на двадцати футах глубины между скалами, возвышавшимися вертикально и неприступно, как стены. Мост, состоявший из толстых бревен, связанных веревками, был сложен на противоположной стороне, и так как от путешественников его отделяла пропасть в пятнадцать футов шириной, установить мост снова не было никакой возможности.
– Клянусь небом! – вскричал Куси, подъехавший к своему другу, – как это неприятно!
– Надо возвращаться, – сказал оруженосец.
– Осмотрим сначала местность, – возразил молодой человек, энергичность которого восставала против подобного предложения.
Посмотрев с минуту на препятствие, он позвал одного из своих пажей и велел подать ему шлем и меч.
– Какое новое сумасбродство ты замышляешь? – с живостью осведомился граф д’Овернь. – Что хочешь ты делать?
– Нечто очень простое, – холодно отвечал Куси. – Ветер доносит до меня звуки голосов из ущелья, которое ты видишь там, и я хочу поехать туда расспросить о дороге.
– Что ты это, Куси? Ни человек, ни лошадь не могут перескочить через это ущелье.
– Ты не сказал бы этого, если бы знал, на что способен мой славный Зербелин, – возразил молодой человек, лаская шею своего арабского коня. – Для него этот прыжок будет игрушкой.
– Но ведь противоположный берег покатист! Твоя лошадь не может там удержаться, если и перепрыгнет. Притом она устала.
– Устала! Ты ее не знаешь, говорю тебе. Ну, пропустите же! – прибавил Куси, обращаясь к солдатам.
Не слушая более возражений, он отъехал на несколько шагов, потом кольнул лошадь шпорами и пустил ее вперед. Повинуясь своему всаднику, конь полетел, как стрела, и легко перепрыгнул через бездну. Но случилось то, что предвидел Тибо д’Овернь. Зербелин не смог удержаться на покатой скале, поскользнулся – и лошадь и всадник покатились на дно ущелья.
– Боже мой! – вскричал испуганный граф, наклонившись над бездной. – Он погиб! Куси! Куси! Отвечай! Ты ушибся?
– Зербелин не ушибся, – раздался жалобный голос из глубины ущелья.
– А ты? Отвечай же!
Слабый стон был единственным ответом, который получил граф д’Овернь. Он старался, наклонившись сильнее, разглядеть дно бездны, но густые кусты, росшие на берегу потока, мешали ему. Но Гуго де Барр, оруженосец, исполнявший должность проводника, соскочил с лошади и, сняв наскоро самые тяжелые части доспеха, начал спускаться по скользкой покатости ущелья, но его остановил громкий окрик:
– Остановитесь! Остановитесь! Если вы пойдете далее, ваши ноги столкнут камни, которые могут нас завалить.
– Кто вы? – спросил граф д’Овернь.
– Отшельник часовни Дорской Богоматери, – отвечал голос. – Если вы друзья этого рыцаря, езжайте назад и через милю отсюда найдете дорогу, которая ведет к ущелью, но если вы его враги, я приказываю вам именем Бога Живого продолжать ваш путь, не преследуя его, потому что он не в состоянии защищаться и находится под покровительством креста.
Не удостоив ответом оскорбительное подозрение, заключавшееся в последних словах, граф д’Овернь немедленно поехал назад с своей свитой и действительно нашел на указанном отшельником расстоянии тропинку, которую не заметил, проезжая мимо, до того она показалась ему узка и непроходима. Но едва он сделал по ней несколько шагов, как узнал, что эта дорога, искусно проложенная между откосами ущелья, мало-помалу расширяется и ведет в долину по отлогому и почти неприметному склону. Скоро он заметил на берегу потока группу из оруженосцев и камеристок. Среди них, возле прекрасного испанского жеребца, каких в то время любили дамы, стоял арабский конь Куси. Целый и невредимый, но еще испуганный своим падением, скакун вырывался из рук четырех пажей, удерживавших его.
В нескольких шагах далее виднелся вход в грот, вырытый в скале рукою человека. Тибо д’Овернь, соскочив наземь, направился в ту сторону, и первое, что поразило его взгляд, когда он переступил порог грота, был его друг, лежавший без чувств на грубом ложе, составленном из соломы и сухого тростника.
Высокий старик в коричневой рясе, с худым лицом и длинной белой бородой, сидел возле молодого человека. Тонкая струя крови лилась из руки последнего в деревянную чашку, которую держал паж.
Рядом с отшельником стоял низенький мужчина с седыми волосами, богато одетый, живые и проницательные глаза которого, властные черты и резкие движения выдавали человека вспыльчивого характера, не привыкшего к противоречию.
Он смотрел на эту сцену скорее с любопытством, чем с сочувствием. Взор его переносился даже с каким-то раздражением с раненого на молодую женщину лет двадцати, которая была его дочерью и прекрасное лицо которой, обращенное к раненому, горело кротким состраданием и нежным беспокойством.
В то время, когда все женщины, даже самые знатные, должны были, по обычаю, оказывать помощь раненым рыцарям и имели первоначальные понятия о хирургии, поступок молодой дамы был весьма естественным. Без жеманства и ложного стыда она стояла на коленах напротив отшельника и в своих нежных ладонях держала руку Куси, подстерегая минуту, когда он придет в чувство.
Граф д’Овернь остановился у входа в грот, с беспокойством ожидая результата кровопускания и не смея прервать молчания. Гуго де Барр последовал за ним, как и любимый паж Куси, Эрмольд де Марси, пятнадцатилетний юноша. Испугавшись крови, Эрмольд схватил Гуго за руку.
– Они его убьют, – сказал он шепотом. – Посмотри, как хозяин бледен.
– Молчи, сумасшедший, – отвечал Гуго де Барр также тихо. – Разве ты никогда не видал, как наш цирюльник пускает кровь старому барону?
– Этот отшельник имеет дурные умыслы, говорю тебе, – настаивал парнишка. – Посмотри, как он рассматривает карбункул, служащий печатью сиру Ги. Он хочет его убить, чтобы потом обокрасть.
– Ты что, рассудка лишился? – возразил его старший товарищ почти с негодованием. – Разве граф д’Овернь, знающий хирургию не хуже священника, позволил бы пролить кровь своего брата по оружию, если бы не знал, что это для его пользы… Посмотри, вот сир Ги открывает глаза. Господь да благословит вас, святой отшельник, за помощь, которую вы подали господину! – прибавил он вслух.
Куси в самом деле опомнился от обморока. Он обвел грот еще затуманенным взором и, узнав графа д’Оверня, промолвил голосом слабым, но с веселой улыбкой:
– Ну, Тибо, я чуть было не прыгнул дальше, чем хотел, и Зербелин чуть было не унес меня прямо в рай.
Приметив молодую даму, стоявшую на коленях возле него, он прибавил вежливым тоном:
– Тысячу раз благодарю вас, прелестная сударыня. Вы возвратили мне больше сил, чем я смел надеяться, и я могу теперь встать. Дай мне руку, Гуго.
Но отшельник властно положил ладонь на грудь молодого человека и сказал тоном более насмешливым, чем сострадательным:
– Имейте терпение, сын мой. Может быть, этот жалкий мир не весьма приятное местопребывание. Однако если вы не хотите променять почетное место, которое в нем занимаете, на шесть футов земли в углу кладбища, надо лежать спокойно. Мы перенесем вас в Сен-Павенскую часовню, где вы найдете помещение более приличное для больного и где я поставлю вас на ноги в два дня, если ваш мудрый ум согласится слушать мои советы в продолжение столь значительного времени.
Говоря таким образом, он перевязал руку рыцаря, который, обнаружив себя более слабым, чем полагал, покорился, не возражая предписаниям отшельника.
– Добрый отец, – сказал тогда граф д’Овернь, отводя старца в сторону, – если ушибы этого рыцаря опасны, признайтесь мне откровенно, и я тотчас пошлю за доктором в Мон-Ферран.
– Я думаю, сын мой, – ответил отшельник тем насмешливым тоном, который был ему свойствен, – что если это падение, расшибив тело этого молодого безумца, способно восстановить равновесие его ума, он недорого купил бы небольшую долю благоразумия и рассудка. А доктора оставьте в Мон-Ферране. Ваш друг будет подвергаться большей опасности в его руках, чем в моих. Лекарь может его убить, а самое плохое, что могу сделать я, так это дать ему умереть своей смертью.
– Я не ошибаюсь! – вскричал вдруг седовласый мужчина, который несколько минут смотрел на графа д’Оверня с радостным удивлением. – Хотя глаза мои ослабели от старости, однако они могут еще узнавать друга, а вы, молодой человек, граф Тибо д’Овернь?
– В самом деле, – отвечал Тибо, – если память мне не изменяет, я имею честь приветствовать графа Жюльена дю Мона, бывшего товарища моего отца по оружию.
– Его самого, мой юный друг! – сказал ветеран, с жаром сжимая протянутую ему Тибо руку. – Я покинул Фландрию два месяца тому назад, чтобы посетить вашего отца в его резиденции Вик-ле-Конт, и был бы уже там, если бы благочестивое желание моей дочери Алисы исполнить обет, данный Сен-Павенской Богоматери, не заставило нас свернуть с дороги. Но вы знаете, без сомнения, зачем я еду, – сказал он шепотом. – Дело идет о плане, давно задуманном вашим отцом и мною, об одном важном политическом деле, где можно приобрести славу и выгоды.
– Я пять лет не видал моего отца и только что вернулся из Палестины, – отвечал граф д’Овернь, указывая на пальмовую ветвь. – Но я рад, что мое возвращение позволяет мне первому принять гостя, и надеюсь, сир Жюльен, что вы мне позволите проводить вас с моим отрядом в Вик-ле-Конт, где, без сомнения, вас с нетерпением ждут.
Предложение было принято, Тибо и граф Жюльен вышли вместе и распорядились приготовить носилки, которые должны были перевезти раненого в Сен-Павен и дать приказание к отъезду.
Между тем Куси, возле которого молодая девушка оставалась одна во время этого разговора, смог внимательнее ее рассмотреть. Ему не потребовалось продолжительного осмотра, чтобы понять, что никогда еще в своих странствованиях он не встречал лица столь прелестного, обращения равно любезного и скромного, которое способно было внушить любовь. Между тем сам рыцарь, человек вовсе не робкий, ощущал смятение и замешательство. Его уста, обыкновенно так искусно передававшие чувства его сердца, с трудом находили самые простые слова, и к своему великому удивлению, Куси не только не осмелился попросить у Алисы перчатку или ленточку, чтобы привязать к своему шлему как знак признательности, но даже, пытаясь выразить ей свою благодарность, придумывал такие избитые фразы, что ему стало стыдно своей неловкости и глупости. Однако он оправился и обрел, без сомнения, часть своего красноречия, потому что хотя мы не беремся уверенно предположить, что творилось в сердце молодой дамы, следует отметить, что когда стали перекладывать его на носилки, щеки Алисы зарумянились, а глаза блестели сильнее обыкновенного, а во время путешествия она не раз оборачивалась с тревожным видом к раненому.
Не раз также, забывая подгонять своего прекрасного испанского жеребца, она оставалась позади, чтобы слышать сведения, которые Эрмольд де Марси сообщал Гуго де Барру и солдатам о здоровье Куси.
Это не было замечено, потому что Тибо, в глазах которого, когда Алиса была ему представлена отцом, не проявилось ни малейшего восторга, погрузился в прежнюю задумчивость; а старый граф Жюльен был озабочен только тем, как в наиболее привлекательном виде изложить свои политические планы д’Оверню.
Часовня Сен-Павенской Богоматери возвышается в самой живописной местности, на правом берегу озера, находящегося почти на вершине горы. Прозрачные воды озера затемнены столетним лесом, величественная масса которого возвышается на противоположном берегу. В то время из всей Франции стекались туда богомольцы, и несколько келий было выстроено возле часовни для священников, служивших в ней.
Когда путешественники доехали через час до цели своего путешествия, отшельник велел положить Куси в одной из этих келий на ложе из мха, приказав оставить его одного.
Приказание было благоразумное, потому что усталость вкупе с слабостью больного и потрясением от падения произвели сильную горячку с бредом. Но этот бред не сулил ничего опасного или мучительного. Ум рыцаря, проблуждав некоторое время среди воспоминаний о турнирах и сражениях, которыми было наполнено его воображение, занялся затем исключительно Алисой, образ в мечтах представлялся ему еще обольстительнее, чем в действительности.
Молодой человек спрашивал себя, почему находя ее прекрасной, он не смел сказать ей этого; почему он, обыкновенно столь смелый и столь быстро воспламенявшийся, оставался возле нее холоден и смущен. Когда к нему возвратился луч рассудка, Куси заключил, очень благоразумно, что это потому, что прежде он не был влюблен. Потом, обрадовавшись этому счастливому открытию, больной заснул сном праведника.