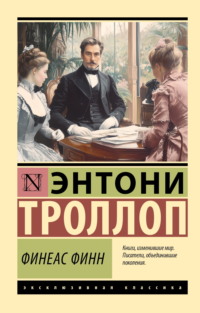Kitobni o'qish: «Финеас Финн», sahifa 11
«Я знаю, что ему нужно ехать. Таково его положение. Но я буду верна ему, что бы из этого ни вышло», – решила она про себя.
– Ты, верно, печалишься, – сказала ей на следующее утро Барбара Финн.
– Нет-нет, не печалюсь. У меня столько поводов гордиться и радоваться! Я вовсе не намерена печалиться.
Тут она отвернулась и залилась горькими слезами, и Барбара Финн заплакала вместе с ней.
Глава 17
Финеас Финн возвращается в Лондон
За время пребывания в Киллало Финеас получил письма от двух благосклонных к нему дам, и, так как письма эти были весьма короткими, их стоит представить читателю. Вот что говорилось в первом:
Солсби, 20 октября 186– г.
Мой дорогой мистер Финн,
пишу, чтобы сообщить: наша свадьба состоится так скоро, как только возможно. Мистер Кеннеди не любит отсутствовать в парламенте и не желает откладывать церемонию до окончания сессии. Назначенная дата – 3 декабря, а после мы сразу отбываем в Рим и вернемся в Лондон к открытию новой сессии.
Искренне ваша,
Лора Стэндиш
В Лондоне мы будем жить по адресу: Гросвенор-плейс, № 52.
На это он ответил столь же коротко, принеся свои горячие поздравления с грядущей зимней свадьбой и заверив, что явится засвидетельствовать свое почтение в дом № 52 на Гросвенор-плейс, едва окажется в Лондоне.
Вот что было сказано во втором письме:
Грейт-Мальборо-стрит, декабрь 186– г.
Дорогой и почитаемый сэр,
Банс очень тревожится насчет комнат и говорит, что знает письмоводителя из Канцлерского суда, молодого господина с женой и ребенком, которые готовы взять внаем целый дом, а все из-за того, что мисс Паунсфут сказала про портвейн, хоть в ее лета любая могла в сердцах обмолвиться, и подумаешь, ничего такого она в виду не имела. Да и то сказать, я мисс Паунсфут знаю уже почитай как семь лет, и неужто я ей откажу из-за слова-другого, которые и вырвались-то случайно? Но, почтенный сэр, не затем я вам пишу, а спросить, точно ли вы уверены, что снова займете комнаты в феврале. В месяц после Рождества их сдать легче легкого, потому как везде показывают вертепы. Только скажите поскорее, а то Банс донимает меня каждый день. И на что мне сдалось обхаживать жильцову жену с ребенком – уж я бы лучше хотела, чтобы у меня жил депутат и джентльмен вроде вас.
С почтением и уважением,
Джейн Банс
Финеас уверил ее, что непременно вернется в комнаты на Грейт-Мальборо-стрит, если ему посчастливится найти их свободными, и выразил готовность занять их с первого февраля. Третьего февраля он вновь был на старом месте, где обнаружил, что миссис Банс с приобретенной в браке сноровкой умудрилась как удержать в доме мисс Паунсфут, так и отвадить супругу письмоводителя с ее чадом. Сам Банс, однако, встретил Финеаса очень холодно и сказал супруге тем же вечером, что, насколько он понимает, в вопросе о тайном голосовании на их жильца рассчитывать не приходится.
– Ежели он хочет приносить пользу, так зачем ездил к этим лордам в Шотландию? Мне все про это известно. И уж я-то вижу, кто чего стоит. Вот мистер Лоу – заправский тори и метит в судьи, а все же он куда лучше, потому как знает, что делает.
Сразу по возвращении в столицу Финеаса призвали на политическое собрание в доме мистера Майлдмэя на площади Сент-Джеймс.
– Мы, наконец, принимаемся за дело всерьез, – сказал ему в клубе Баррингтон Эрл.
– Рад это слышать, – ответил Финеас.
– Полагаю, в Лохлинтере вам все об этом рассказали?
В действительности ничего определенного Финеас не слышал. Он играл в шахматы с мистером Грешемом, охотился на оленей с мистером Паллизером и обсуждал овец с лордом Брентфордом, но разговоры со всеми этими влиятельными джентльменами едва затрагивали политику. Мистер Монк много говорил об избирательной реформе, но то были частные беседы, касавшиеся скорее собственных взглядов мистера Монка, чем намерений партии, к которой тот принадлежал.
– Я не знаю точного плана, – сказал Финеас, – но думаю, мы собираемся принять билль о реформе.
– Само собой.
– И полагаю, не будем касаться тайного голосования.
– В этом и сложность. Но мы, разумеется, его не примем, пока во главе кабинета мистер Майлдмэй. Он, как премьер-министр, никогда на такое не согласится.
– Так же, как и Грешем, и Паллизер, – свой главный козырь Финеас приберег на потом.
– Насчет Грешема я не столь уверен. Кто знает, чего от него ждать. Грешем способен на многое, мы это еще увидим. Планти Палл… – Таково было имя, под которым мистера Плантагенета Паллизера знали друзья. – Тот, без сомнения, поступит так же, как мистер Майлдмэй и герцог.
– А Монк против тайного голосования, – сказал Финеас.
– В том-то и вопрос. Он, конечно, согласился на законопроект без него, но если дойдет до противостояния и люди вроде Тернбулла станут его требовать, а толпа в Лондоне устроит беспорядки – не знаю, сохранит ли Монк твердость.
– Что бы он ни сказал, он от этого не отступится.
– Значит, вы теперь его человек? – спросил Баррингтон Эрл.
– Не уверен. Мистер Майлдмэй – наш глава; если уж я чей-то человек, то его. Но мистера Монка я весьма почитаю.
– Он поддержит тайное голосование хоть завтра, если на этом будут настаивать, – сказал Баррингтон Эрл мистеру Ратлеру через несколько минут, указывая на Финеаса.
– Я не жду многого от этого молодого человека, – заметил Ратлер.
В этом мнении мистер Бонтин и мистер Ратлер сошлись в свой последний вечер в Лохлинтере. Но почему тогда мистер Кеннеди отлучился с охоты, чтобы сыскать Финеасу пони? Отчего мистер Грешем играл с ним в шахматы?.. Мистер Ратлер и мистер Бонтин могли быть правы, решив не придавать личности Финеаса Финна большого значения, но Баррингтон Эрл ошибался, считая, что тот готов поддержать тайное голосование. Наш герой твердо знал, что никогда этого не сделает. Никто, разумеется, не может ручаться за свое мнение на всю жизнь вперед, но в нынешнем умонастроении и под влиянием мистера Монка он был готов доказывать и в палате общин, и вне ее, что тайное голосование как политический шаг – мера трусливая, неэффективная и разлагающая. Мистеру Монку нравилось слово «разлагающий», и Финеас с восхищением его перенял.
На третий день сессии в доме мистера Майлдмэя состоялось собрание. Финеас, конечно, слышал о таких встречах раньше, но никогда на них не бывал. Собственно, когда в начале предыдущей сессии виги пришли к власти, ничего подобного не проводилось: мистер Майлдмэй и его сторонники истратили все силы на борьбу и радовались передышке. Однако пора было вновь браться за дело, и поэтому все они явились к мистеру Майлдмэю с целью узнать, что намерен предпринять их глава и его кабинет.
Финеас Финн пребывал в совершенном неведении о том, что ему предстоит, и лишь смутно воображал себе, что каждому нужно будет сказать, согласен ли он с предлагаемыми мерами. На площадь Сент-Джеймс он отправился с Лоренсом Фицгиббоном, но не мог расспросить даже его, так стыдно было показывать свое незнание.
– В конце концов, это ровным счетом ничего не значит, – заявил Фицгиббон. – Что скажет мистер Майлдмэй, ты знаешь не хуже меня. Потом слово возьмет Грешем. Потом Тернбулл что-нибудь возразит. И наконец, мы согласимся – с чем угодно или вовсе ни с чем, на этом дело и закончится.
Финеас по-прежнему не понимал, потребуется ли выбор лично от каждого или же нет, и по завершении собрания был разочарован: казалось, он мог бы с тем же успехом остаться дома и никуда не ходить. Тем не менее он присутствовал по приглашению мистера Майлдмэя и дал молчаливое согласие на то, чтобы план реформ был принят в эту парламентскую сессию. Лоренс Фицгиббон описал произошедшее весьма точно: мистер Майлдмэй произнес длинную речь, мистер Тернбулл, большой радикал, считавшийся представителем так называемой манчестерской школы 12, задал полдюжины вопросов. Мистер Грешем в ответ произнес короткую речь. Затем еще одну речь произнес мистер Майлдмэй, и собрание завершилось. Суть заключалась в том, что будет предложен билль о реформе, весьма щедро расширяющий избирательное право, но не предусматривающий тайного голосования. Мистер Тернбулл выразил сомнение, удовлетворит ли это жителей страны, но даже он высказывался мягко и держался учтиво. Репортеры не присутствовали: этот шаг к превращению приватных собраний в частных домах в собрания публичные еще не был совершен, а раз так, то не было нужды горячиться, и все вели себя учтиво. Они пришли к мистеру Майлдмэю, чтобы услышать его план, и они его услышали.
Два дня спустя Финеас должен был ужинать с мистером Монком. Тот пригласил его, встретив в палате общин:
– Я не устраиваю званых обедов, но хотел бы, чтобы вы пришли и познакомились с мистером Тернбуллом.
Финеас, разумеется, принял приглашение. Многие называли мистера Тернбулла величайшим умом государства и утверждали, что страну может спасти только строгое следование его указаниям. Другие рассказывали, что он демагог и мятежник в душе, в нем нет ничего от англичанина, он лжив и опасен. Последнему Финеас был склонен верить и, так как опасность и те, кто ее несет, всегда привлекательнее, чем их противоположность, был рад возможности поужинать в компании такого человека.
Пока же наш герой отправился к леди Лоре, которую не видел с последнего вечера в Лохлинтере, и которую поцеловал тогда на прощание под водопадом. Он нашел ее дома, а с ней и ее супруга.
– Похоже на визит к Филемону и Бавкиде 13, верно? – она встала, чтобы поприветствовать его.
С мистером Кеннеди Финеас уже виделся на собрании у мистера Майлдмэя.
– Очень рад застать вас обоих.
– Но Роберт сейчас уходит, – сказала леди Лора. – Он уже поведал о наших приключениях в Риме?
– Ни слова.
– Тогда это должна сделать я. Но не теперь. Папа Римский был с нами так любезен! Жаль, что у нас на него нынче сердиты 14.
– Я должен идти, – поднялся с места ее муж. – Полагаю, мы увидимся за ужином.
– Вы будете у мистера Монка?
– Да, и он пригласил меня нарочно, чтобы я увидел, как Тернбулл обратит вас в своего сторонника. Будем только мы вчетвером. До встречи.
Мистер Кеннеди ушел, и Финеас остался наедине с леди Лорой. Наш герой безмолвствовал: ему не пришло в голову подготовиться к беседе, и он чувствовал себя неловко. Леди Лора несколько мгновений сидела молча, явно ожидая каких-нибудь слов от него, пока не поняла, что этого не случится.
– Не удивились ли вы нашей поспешности, когда получили мое письмо? – спросила она наконец.
– Немного. Вы сказали, что свадьба случится не сразу.
– Я никогда не думала, что он будет так нетерпелив. Но он, кажется, считает, что даже женитьба не оправдывает отсутствия в парламенте. Мой муж исполняет долг неукоснительно – всегда и во всем.
– Его поспешность меня не удивляет – лишь то, что вы согласились.
– Я говорила вам, что положусь на решение старших. Обратилась за советом к папаˊ, и он сказал, что так будет лучше. И вот: юристы были в отчаянии, модистки сбились с ног, но все устроилось.
– Кто был на свадьбе?
– Освальд не приезжал. Я знаю, вы хотите спросить об этом. Папаˊ сказал, что он может прийти, если захочет, но Освальд поставил условие: пусть его примут как сына. Однако отец был суров как никогда.
– Что он ответил?
– Не буду повторять всего. Сказал, Освальд не заслужил, чтобы к нему относились как к сыну. Отец очень расстроен, что у меня нет приданого, потому что Роберт так щедр. Они теперь еще дальше от примирения.
– Где же сейчас Чилтерн? – спросил Финеас.
– В Нортгемптоншире. Живет в гостинице, ездит оттуда на охоту. Говорит, что он там совершенно один, ни у кого не бывает, никого не зовет к себе, охотится пять-шесть дней в неделю, а по вечерам читает.
– Не худшая жизнь.
– Не худшая, если книги хороши. Но мне невыносима мысль, что он так одинок. А если уединение ему наскучит, то общество, которое он найдет, не принесет ему пользы. Вы охотитесь?
– О да, дома, в графстве Клэр. Все ирландцы охотятся.
– Ах, если бы вы поехали повидаться с ним! Он был бы так рад вашему визиту!
Финеас обдумал ее предложение, прежде чем ответить, – то же, что отвечал раньше.
– Я был бы не прочь, леди Лора, но у меня нет денег, чтобы охотиться в Англии.
– Увы, увы! – улыбнулась она. – Везде это препятствие!
– Быть может, в марте, дня на два.
– Не стоит, если вам это причинит неудобства, – промолвила леди Лора.
– Ну что вы. Мне было бы приятно, и я поеду, если смогу.
– Уверена, он дал бы вам лошадь. Других расходов у него теперь нет, и он держит полную конюшню – штук семь или восемь, полагаю. А теперь скажите мне, мистер Финн, когда вы собираетесь очаровать палату общин своим красноречием? Или, быть может, вы скорее намереваетесь ее устрашить?
Он ощутил, как заливается краской:
– О, в скором времени. Мне невыносима мысль, что я не делаю ничего интересного.
– Вам следует выступить, мистер Финн.
– Не уверен, но определенно думаю попробовать. С новым биллем о реформе поводов будет много. Вы, конечно, знаете, что мистер Майлдмэй собирается представить билль немедленно. Мистер Кеннеди, верно, обо всем вам рассказывает.
– Мне и папаˊ говорил. Я по-прежнему вижусь с ним почти каждый день. Вы должны навестить его – непременно.
Финеас обещал это сделать.
– Папаˊ теперь всегда один, и мне порой кажется, что было жестоко его покинуть. Полагаю, его страшит собственный дом, особенно ближе к лету: он боится столкнуться с Освальдом. Все это так огорчительно, мистер Финн.
– Почему ваш брат не женится? – спросил Финеас, ничего не зная о лорде Чилтерне и Вайолет Эффингем. – Если бы он удачно женился, ваш отец примирился бы с ним.
– О да, это верно.
– Так почему же?
Немного помолчав, леди Лора поведала ему суть истории:
– Он страстно влюблен, а та, кого он любит, дважды ему отказала.
– Это мисс Эффингем? – спросил Финеас, мгновенно угадав правду и вспомнив, о чем та говорила, когда они ехали верхом по лесу.
– Да, Вайолет Эффингем. Наш отец ее обожает – любит почти так же, как меня, и действительно принял бы как дочь. Он был бы счастлив видеть ее хозяйкой дома – здесь и в Солсби. Это разрешило бы все затруднения.
– Но ей не по сердцу лорд Чилтерн?
– Я убеждена, в глубине души она его любит, но боится. Сама она говорит, что девушке нужно быть осмотрительной. Вайолет весьма разумна, хоть и кажется легкомысленной.
Финеас был раздосадован услышанным, хоть и не чувствовал в сердце ничего, похожего на ревность. Но лорд Чилтерн – после известия о том, что тот влюблен в мисс Эффингем, – определенно стал нравиться ему меньше. Сам Финеас лишь восхищался девушкой и наслаждался ее обществом – не более, и все же ему неприятно было слышать, что на ней хочет жениться другой, и он почти досадовал на леди Лору за слова о том, что мисс Эффингем будто бы любит ее брата. Коли та дважды отказала лорду Чилтерну, так этого должно быть достаточно. Нет, Финеас не был ею увлечен. Он был по-прежнему безумно влюблен в леди Лору, о другом чувстве не могло быть и речи, тем не менее услышанное пришлось ему не по душе.
– Если она поступает разумно, – сказал он, отвечая на последние слова леди Лоры, – то вы едва ли можете ее винить.
– Я не виню, но думаю, что мой брат мог бы сделать ее счастливой.
Оставшись одна, леди Лора принялась размышлять о том, как Финеас Финн отвечал на ее замечания о мисс Эффингем. Он вовсе не умел скрывать своих чувств, и его всегда можно было читать как открытую книгу. «Неужели он к ней неравнодушен?» – спросила себя леди Лора. Она не задумалась ни о том, как различно положение и состояние Финеаса и Вайолет, ни о том, что Вайолет едва ли приняла бы любовь того, кто недавно был поклонником ее подруги. Но мысль о них вместе была ей неприятна по двум причинам: во‑первых, леди Лора очень хотела, чтобы Вайолет в конце концов вышла за ее брата, а во‑вторых, не могла радоваться тому, что Финеас способен полюбить другую женщину.
Прошу моих читателей не делать из последних слов ошибочных заключений. Не следует предполагать, будто леди Лора Кеннеди, недавно выйдя замуж, питала к влюбленному юноше запретную страсть. Да, она часто думала о Финеасе после свадьбы, но эти мысли никогда не принимали опасный оборот. Ей и в голову не приходило, будто чувства ее такой природы, что могли бы оскорбить ее супруга, а если бы пришло, она возненавидела бы саму себя. Леди Лора гордилась своей чистотой и своими нравственными устоями, а также тем, что, всегда владея собой, не подвергалась опасности разбиться о те рифы, которые стоили счастья столь многим женщинам. Да, это составляло ее гордость, за которую она нередко себя упрекала, но даже упрекая, была уверена, что неуязвима. Леди Лора отбросила мысль о любви, едва осознав, что Финеас относится к ней не по-дружески нежно, и приняла предложение мистера Кеннеди с уверенностью, что так будет лучше для нее самой и ее близких. Когда Финеас стоял с ней на вершине в Лохлинтере и говорил о надеждах, которые осмеливался лелеять, она наслаждалась тем, как романтично ее положение. И когда у подножия водопада он осмелился прижать ее к груди, она легко простила его, сказав себе, что это альфа и омега любовных переживаний в ее жизни. Леди Лора не считала нужным рассказывать о случившемся мистеру Кеннеди, но полагала, что, даже узнав, он едва ли рассердился бы. С тех пор она часто думала о Финеасе и его любви, говоря себе, что у нее тоже был поклонник; мужа она в этом качестве никогда не рассматривала. Эти мысли, однако, не страшили ее, как страшат мысли преступные. У нее было романтическое увлечение, оно было приятно, и оно прошло – так было нужно. Осталась сладость воспоминаний, которую она могла вкушать, даже зная, что все в прошлом. Теперь поклонник станет ее другом, а в особенности другом ее мужа, и они, а в особенности ее муж, позаботятся, чтобы он достиг в жизни успеха. Ей было очень приятно знать, что мужу он по нраву. А когда человек этот женится, его жена также станет ее подругой. Все это были рассуждения чистые и весьма отрадные. Теперь у нее в голове мелькнула мысль, что он и правда влюблен в другую, и ей это совсем не понравилось.
Но леди Лора не устрашилась и не осознала, в какой она опасности. В своих умозаключениях она не пошла дальше того, чтобы осудить мужское вероломство. Если ее подозрения верны и Финеас теперь любит Вайолет Эффингем, то как же мало стоят его чувства! Ей не пришло в голову, что и она теперь любила Роберта Кеннеди – или, быть может, не любила, что еще хуже. Она помнила, как прошедшей осенью этот молодой Феб, стоя с ней на холме, отвернулся, скрывая боль, когда узнал, что она помолвлена, но вот еще не кончилась зима, а он уже не таит, что его сердце принадлежит другой! Тут она принялась сопоставлять факты и считать, пока не убедилась, что Финеас даже не видел Вайолет Эффингем с тех пор, как побывал в Лохлинтере. Как лживы мужчины! Как лживы и как переменчивы!
«Чилтерн и Вайолет Эффингем! – говорил себе Финеас, уходя прочь с Гросвенор-плейс. – Неужели ее нужно принести в жертву – лишь потому, что она богата, и красива, и очаровательна, так что лорд Брентфорд даже готов простить сына, лишь бы заполучить такую невестку?» Финеасу тоже был по нраву лорд Чилтерн, и он видел – или воображал, что видел, – в нем хорошие задатки и надеялся на его исправление, рассчитывая, быть может, сыграть в этом свою роль. Но жертвовать – даже ради столь благой цели – Вайолет Эффингем? Она дважды отказала лорду Чилтерну, так что же ему еще нужно? Финеасу, однако, не приходило в голову, что любовь такой девушки, как Вайолет, могла бы составить его собственное счастье, ведь он по-прежнему был безнадежно влюблен в леди Лору Кеннеди.
Глава 18
Мистер Тернбулл
Был вечер среды, и палата общин не заседала; в семь часов Финеас стоял у дверей мистера Монка. Он прибыл первым и застал хозяина в столовой одного.
– Я за дворецкого, – сказал мистер Монк, держа в руках пару графинов и ставя их поближе к огню. – Но я уже закончил. Идемте наверх, чтобы должным образом принять двух великих людей.
– Простите: я, кажется, слишком рано.
– Ничуть. Семь часов – это семь часов. Я сам замешкался. Но не подумайте, бога ради, будто я стыжусь, что сам разливаю вино в своем доме! Помню, несколько лет назад лорд Палмерстон заявил на заседании комитета по заработной плате: мол, английскому министру не пристало, чтобы дверь в его доме открывала служанка 15. Что ж. Я английский министр, но гостей у меня впустить некому, кроме единственной горничной, а вином я занимаюсь сам. Неужто я веду себя неподобающе? Не хотелось бы подрывать конституционные устои.
– Быть может, если вы скоро уйдете в отставку и никто не последует вашему примеру, катастрофы удастся избежать.
– От души надеюсь на это, ведь я люблю британскую конституцию, и мне по душе почтение, которое питают к членам кабинета. Тернбулл, который вот-вот придет, все это ненавидит, но он богатый человек и в его доме больше ливрейных лакеев, чем когда-либо было у лорда Палмерстона.
– Он ведь по-прежнему занимается делами?
– О да, и имеет в год тридцать тысяч дохода. Вот и он. Как поживаете, Тернбулл? Мы тут говорили о моей служанке. Надеюсь, она не оскорбила ваш взор, когда открывала дверь.
– Отнюдь. На вид весьма порядочная девица, – ответил мистер Тернбулл, который славился пламенными речами больше, чем чувством юмора.
– Порядочней не сыщешь во всем Лондоне, – заметил мистер Монк, – но Финну кажется, будто мне полагается ливрейный лакей.
– Мне это совершенно безразлично, – сказал мистер Тернбулл. – Никогда не думаю о таких вещах.
– Как и я, – согласился мистер Монк.
Тут доложили о приходе лэрда Лохлинтера, и все спустились к ужину.
Мистер Тернбулл был недурным собой, крепким мужчиной лет шестидесяти, с длинными седыми волосами и красным лицом, с жестким взглядом, носом правильной формы и полными губами. Почти шести футов росту, он держался очень прямо и был неизменно, по крайней мере в парламенте и на званых ужинах, одет в черный фрак, черные брюки и черный шелковый жилет; как он одевался в собственном доме в Стейлибридже, могли судить лишь немногие из его лондонских знакомцев. В чертах мистера Тернбулла не было ничего, что указывало бы на особые таланты. Никто не счел бы его глупцом, но в глазах его не было искры гения и в линиях рта не угадывалось игры мысли или воображения, как бывает у людей, достигших величия. Впрочем, величия мистер Тернбулл, несомненно, достиг – и не в последнюю очередь благодаря своему уму. Он был одним из самых популярных, если не самым популярным политиком в стране. Бедняки верили ему, считая своим самым искренним заступником, остальные верили в его силы, считая, что он непременно добьется своего. В палате общин к нему прислушивались, а репортеры отзывались о нем благосклонно. Стоило мистеру Тернбуллу открыть рот на любом публичном обеде или ином мероприятии, и он мог быть уверен, что его слова прочитают тысячи людей. Многочисленная аудитория необходима для хорошего выступления, и это преимущество всегда было на стороне мистера Тернбулла. Тем не менее его нельзя было назвать выдающимся оратором. Он обладал мощным голосом, твердыми и, я бы сказал, смелыми убеждениями, абсолютной уверенностью в себе, почти неограниченной выносливостью, кипучим честолюбием и в придачу к этому весьма умеренной щепетильностью и толстой – в моральном смысле – кожей. Слова не причиняли ему боли, нападки не ранили, насмешки не задевали. Нигде у него не было ахиллесовой пяты; просыпаясь каждое утро, мистер Тернбулл, вероятно, осознавал себя totus teres atque rotundus – круглым и гладким 16. В политике он был выраженным радикалом, как и мистер Монк, но последний по утрам, без сомнения, ощущал нечто совершенно противоположное. В дебатах мистер Монк был куда более пылким, чем мистер Тернбулл, но всегда сомневался в себе, и более всего как раз тогда, когда наиболее яростно и убедительно доказывал свою точку зрения. Именно внутренняя неуверенность подталкивала мистера Монка смеяться над тем, что у него, английского министра, нет прислуги внушительнее, чем горничная.
Итак, мистер Тернбулл был записным радикалом и пользовался известностью в этом качестве. Не думаю, что ему когда-либо предлагали высокий государственный пост, но об этом говорилось достаточно, по крайней мере на его собственный взгляд, чтобы он считал нужным открещиваться во всеуслышание.
– Я служу народу, – заявлял он, – и при всем уважении к слугам Короны считаю свое звание выше.
За эти слова его сильно критиковали, и мистер Майлдмэй, действующий премьер-министр, осведомился, отрицает ли мистер Тернбулл, что так называемые слуги Короны служат народу преданнее и усерднее всех. Палата общин и пресса поддержали премьера. Мистер Тернбулл, однако, ничуть не смутился. Позднее, объявив перед несколькими тысячами человек в Манчестере, что первейший друг и слуга народа – именно он и никто иной, и услышав в ответ овации, он был вполне удовлетворен и счел, что победа осталась за ним. Прогрессивная избирательная реформа, ведущая в недалеком будущем к праву голоса для всего мужского населения, равные избирательные округа, тайное голосование, права арендаторов в Англии и Ирландии, сокращение постоянной армии до полного отказа от нее, абсолютное пренебрежение европейской политической жизнью и почти исступленное восхищение американской, свободная торговля всем, кроме солода 17, а также полное отделение церкви от государства – таковы были основные политические воззрения мистера Тернбулла. Подозреваю, что с тех пор, как он научился говорить гладко и громко, чтобы его слышала вся палата общин, дело жизни более не представляло для него значительного труда. Ничего не создавая, он всегда мог отделаться общими фразами; не неся никакой ответственности, мог пренебречь подробностями и даже важными фактами. Он ставил себе задачей обличать пороки, но это, быть может, наилегчайшая задача на свете, стоит лишь завоевать аудиторию. Мистер Тернбулл брался валить лес – с тем, чтобы землю дальше возделывали другие. Мистер Монк как-то поведал Финеасу Финну, что оппозиции простительны ошибки, и в этом ее преимущество. Мистер Тернбулл, несомненно, наслаждался этим преимуществом в полной мере, хотя скорее согласился бы молчать целый месяц, чем признал бы это открыто. В целом он, несомненно, был прав, отказываясь от амбиций занять государственную должность, хотя некоторая сдержанность в разговорах об этом не повредила бы.
Беседа за ужином, хоть и касалась политики, была не слишком занимательна, пока им прислуживала горничная. Но стоило ей закрыть за собой дверь, как все постепенно оживились и началась захватывающая словесная дуэль между двумя завзятыми радикалами, из которых один присоединился к действующей власти, другой же оставался в стороне. Мистер Кеннеди почти не раскрывал рта, и Финеас был так же молчалив. Он пришел, чтобы слушать и, пока для его развлечения палили столь мощные орудия, был готов внимать им без звука.
– Полагаю, мистер Майлдмэй делает большой шаг вперед, – сказал мистер Тернбулл, и мистер Монк согласился. – Я не верил, что он на такое способен. Эффекта, конечно, не хватит и на год, но для него и этого много. Мы видим, как далеко может пойти человек, если подталкивать его достаточно настойчиво. В конечном счете неважно, кто министр.
– Я всегда это утверждал, – произнес мистер Монк.
– Да, совсем не важно. Для нас не имеет значения, будет это лорд де Террьер, мистер Майлдмэй, мистер Грешем, или даже вы – если пожелаете возглавить правительство.
– Подобных амбиций у меня нет, Тернбулл.
– Неужели? Если бы я взялся играть в эту игру, то захотел бы обойти всех. Я решил бы, что если я и могу принести пользу в правительстве, так только став премьер-министром.
– И вы не усомнились бы, что годитесь для такой должности?
– Я сомневаюсь, что гожусь для любой министерской должности, – сказал мистер Тернбулл.
– Вы говорите сейчас в другом смысле, – заметил мистер Кеннеди.
– Во всех смыслах, – ответил мистер Тернбулл, поднимаясь на ноги и подставляя спину огню. – Конечно, я не сумел бы учтиво говорить с людьми, которые приходили бы, мечтая меня надуть. Или управляться с депутатами, которые рыщут вокруг в поисках должностей. Или отвечать на вопросы каждого встречного и поперечного – так, чтоб ничего при этом не сказать.
– Отчего ж не отвечать, как следует? – спросил мистер Кеннеди.
Мистер Тернбулл, однако, был настолько увлечен своей речью, что не расслышал – во всяком случае, как будто не обратил никакого внимания – и продолжил:
– И уж конечно, я не сумел бы поддерживать видимость доверия между совершенно бессильным государством и всесильным народом. Я лучше всех понимаю, что совсем не гожусь для такой работы, мистер Монк. Но если бы я все-таки взялся за нее, то хотел бы вести, а не быть ведомым. Скажите нам честно, чего стоят ваши убеждения в кабинете мистера Майлдмэя?
– На этот вопрос едва ли можно ответить самому, – запротестовал мистер Монк.
– На этот вопрос ответить необходимо, хотя бы в отношении самого себя, если собираешься быть в правительстве, – заявил мистер Тернбулл с некоторой запальчивостью.
– Почему вы полагаете, что я этим пренебрег? – спросил мистер Монк.
– Потому что никак не могу соединить в голове ваши воззрения, которые мне известны, и действия ваших коллег.
– Не стану оценивать, чего стоят мои убеждения в кабинете мистера Майлдмэя. Быть может, меньше, чем стул, на котором я сижу. Но готов поведать вам, с какими ожиданиями согласился занять это место, и вы можете судить, чего они стоят. Я считал, что смогу внести свою лепту в реформы – сделать так, чтобы они продвинулись чуть дальше. Когда меня попросили присоединиться к мистеру Майлдмэю и мистеру Грешему, я счел, что само это предложение свидетельствует о развитии либерализма, и если я его отвергну, то откажусь участвовать в полезном деле.
– Вы все равно могли бы поддерживать их в достойных начинаниях, – возразил мистер Тернбулл.
– Да, но я едва ли мог способствовать тому, чтобы достойные начинания возникали – во всяком случае, сейчас у меня таких возможностей больше. Я много думал и считаю, что мое решение было правильным.
– Уверен в этом, – согласился мистер Кеннеди.
– Нет более достойной цели, чем место в правительстве, – сказал Финеас.
– Вынужден поспорить с вами, – повернулся к нему мистер Тернбулл. – Да, высокие министерские посты почетны.
– Благодарю и на том, – вставил мистер Монк.
Но его собеседник пропустил это замечание мимо ушей:
– Что до джентльменов на должностях более низких, которые пекутся не об интересах избирателей, а о том, чтобы угадывать желания начальства на Даунинг-стрит, к ним я почтения не чувствую.
Bepul matn qismi tugad.