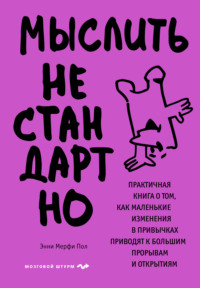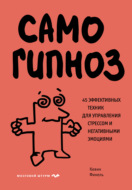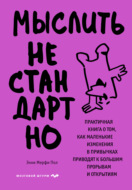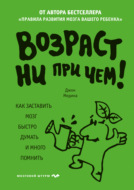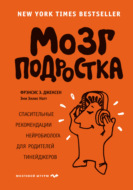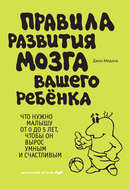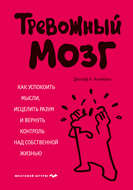Kitobni o'qish: «Мыслить нестандартно. Практичная книга о том, как маленькие изменения в привычках приводят к большим прорывам и открытиям»
Annie Murphy Paul
The Extended Mind: The Power of Thinking Outside the Brain
© 2021 by Anne Paul
© Цветкова Евгения, перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
* * *
Новая и определенно смелая работа, раскрывающая возможности использования нами разума, который существует за пределами мозга – в нашем теле, окружении и в наших взаимоотношениях.
«Думай головой» – фраза, которую мы слышим каждый раз, когда сталкиваемся со сложной задачей. Однако растущее количество исследований подтверждает – нужно действовать иначе. По мнению известной научной писательницы Энни Мерфи Пол, нам необходимо научиться мыслить нестандартно. Множество «экстраневральных1» ресурсов – наши чувства, движения тела, пространства, в которых мы учимся и работаем, а также интеллект окружающих нас людей – влияют на нас и могут помочь лучше концентрироваться, понимать глубже суть вещей и творить. В своей книге Пол рассказывает об исследованиях, которые позволяют по-новому взглянуть на человеческие способности, и подробно рассматривает открытия нейробиологов, ученых-когнитивистов и психологов. Она раскапывает тайную историю того, как художники, ученые и писатели использовали умственные расширения для решения проблем, совершения открытий и создания новых произведений. И объясняет, как читатели могут внедрить внемозговое мышление в свою повседневную жизнь. Эта книга, наравне со «Структурой разума»2 Говарда Гарднера и «Эмоциональным интеллектом»3 Дэниела Гоулмана, предлагает взглянуть на работу нашего разума под другим углом. В ней также собрано большое количество практических советов, как сделать наше мышление четче и ярче.
Об авторе
Энни Мерфи Пол – американская научная писательница. Ее работы публиковались в New York Times, Scientific American и The Best American Science Writing, а также во многих других изданиях. Она является автором книг «Истоки» (Origins), названной книжным обозрением New York Times «примечательной книгой», и «Культ личности» (The Cult of Personality), являющейся, по мнению Малкольма Гладуэлла из The New Yorker, «захватывающей». В настоящее время она является научным сотрудником аналитического центра New America, а также стипендиатом Spencer Education Reporting Fellowship и Rosalynn Carter Mental Health Journalism Fellowship. Пол выступала с лекциями перед аудиториями всего мира, затрагивая темы обучения и когнитивных способностей; ее выступление на платформе TED посмотрели более 2,6 миллиона человек. Выпускница Йельского университета и Высшей школы журналистики Колумбийского университета, она работала лектором в Йельском университете и старшим консультантом в Центре преподавания и обучения Поорву при Йельском университете.
Пролог
Когда пишешь книгу о том, как правильно мыслить, часто кажется, что используемые тобой источники – ученые-когнитивисты, психологи, биологи, нейробиологи и философы, которые могут внести свой вклад в эту тему, – своими работами обращаются непосредственно к тебе: да, вот ты, та, которая пишет книгу! Они уговаривают и настаивают, спорят и дискутируют, предупреждают и оценивают. Но когда ты излагаешь свои рекомендации читателю, они многозначительно спрашивают: следуешь ли ты своему собственному совету?
Я вступила в один из таких интимных диалогов, прочитав отрывок, написанный более 130 лет назад. Казалось, словно автор пробежался по написанным мною страницам, лежащим на столе. Еще более напряженной эту встречу делало то, что писатель, о котором идет речь, был явно грозным персонажем: немецкий философ Фридрих Ницше, человек с суровым взглядом и несколько зловещими усами.
«Как быстро мы догадываемся, что кто-то пришел к своим идеям, сидя перед чернильницей со сведенным животом, низко склонив голову над бумагой… – лукаво заметил Ницше. – И как же быстро в этом случае мы заканчиваем с его книгой! Вы можете биться об заклад, что сведенный кишечник выдает себя не меньше, чем спертый воздух, низкие потолки и теснота в каморке».
Вдруг комната, в которой я писала, показалась мне душной и тесной.
Я наткнулась на его слова, работая над главой о влиянии положения тела и его движений на наше мышление. Цитата Ницше фигурирует в книге современного французского философа Фредерика Гроса «Философия ходьбы» (A Philosophy of Walking); у Гроса есть также свои соображения на этот счет. «Не думайте о книге как о чем-то, что рождается только в голове автора, – советует он. – Подумайте о теле писателя: его руках, ступнях, плечах и голенях. Подумайте о произведении как о выражении его физиологии. Довольно часто в книгах читатель может ощутить присутствие сидящего тела автора, согнутого пополам, сутулого и съежившегося».
Мое тело виновато заерзало в кресле, в котором оно сидело все утро.
«Акту творения, – продолжает Грос, – гораздо больше способствует „тело ходячее“. <…> Оно раскрыто и напряжено, как лук: открыто навстречу пространству, как цветок солнцу». Ницше, напоминает он нам, писал, что мы должны «сидеть как можно меньше. Не верьте ни одной идее, которая не была рождена на свежем воздухе и не несет в себе отпечаток свободного движения».
Философы единодушно ополчились на меня; я закрыла свой ноутбук и пошла прогуляться.
Разумеется, я действовала не только по их приказу. К моменту моего исследования я прочитала десятки эмпирических исследований, доказывающих, что физическая активность обостряет наше внимание, улучшает память и повышает творческий потенциал. И в самом деле, я обнаружила, что плавное движение моих ног, поток сменяющихся образов перед моими глазами, легкое учащение сердцебиения действительно произвели какие-то изменения в моем сознании. Вернувшись за письменный стол, я, не теряя времени, решила запутанную концептуальную проблему, которая мучила меня все утро. (Я могу только надеяться, что созданная мной проза, по формулировке Гроса, также «несет в себе и выражает энергию и упругость тела».) Мог ли мой мозг решить проблему самостоятельно или ему потребовалась помощь моих подвижных конечностей?
Наша культура настаивает на том, что мозг – единственный центр мышления. Это обособленное пространство, где происходит процесс познания, подобно тому, как работа моего ноутбука закупорена внутри его алюминиевого корпуса. В этой книге утверждается обратное: разум больше похож на птицу, строящую гнездо. Я заметила такую на прогулке: она выдергивает ниточку здесь, веточку там, выстраивая затем целое из доступных ей элементов. Для людей такими «элементами» являются прежде всего ощущения и движения нашего тела; физические пространства, в которых мы учимся и работаем; а также интеллект других людей, с которыми мы взаимодействуем: наших одноклассников, коллег, учителей, руководителей, друзей. Иногда все эти три компонента сочетаются особенно удачно, как это произошло в блестящем тандеме Амоса Тверски и Даниэля Канемана. Их совместная новаторская работа по эвристике4 и ошибкам мышления – привычным для человеческого ума сокращениям и искажениям – родилась в ходе разговоров во время прогулок по оживленным улицам Иерусалима и по холмам Калифорнийского побережья. «Никогда размышления не давались мне лучше, чем во время моих неторопливых прогулок с Амосом», – писал Канеман.
О человеческом познании написано множество томов, предложено много теорий и проведено огромное количество исследований (среди них и работы Тверски и Канемана). Эти усилия привели к удивительным открытиям, но большая часть из них рассматривает мыслительную функцию как явление, происходящее только внутри мозга. Гораздо меньше внимания уделялось способности людей мыслить, используя элементы окружающего мира: жесты рук, пространство альбома для зарисовок; как люди слушают чужие истории или как обучают чему-либо кого-то другого. Эти «экстранейронные» компоненты меняют способ нашего мышления. Можно даже сказать, что они составляют часть самого мыслительного процесса. Но где нам найти подробное описание этого способа познания? В научных журналах в основном встречается мнение, что ментальный орган – это некая бестелесная, лишенная конкретного места, асоциальная сущность, «мозг в колбе». В наших учебниках истории прорывы, меняющие мир, приписываются отдельным людям, самостоятельно рождающим великие мысли. Тем не менее все это время существовал и параллельный нарратив – своего рода тайная история мышления, совершаемого вне мозга. Ученые, художники, писатели, общественные лидеры, изобретатели, предприниматели – все они использовали окружающий мир в качестве пищи для своих размышлений. Цель этой книги – подробнее рассмотреть, как внешний мир, благодаря воздействию на мыслительные процессы людей, способствует интеллектуальным и творческим прорывам всего человечества.
Мы узнаем, как генетик Барбара Мак-Клинток получила Нобелевскую премию за творческое переосмысление хромосом растений, которое использовала в исследовании цитогенетики кукурузы, а также поговорим о психотерапевте-новаторе и социальном критике Сьюзи Орбах, которая улавливает чувства своих пациентов, когда они настраиваются на внутренние ощущения собственного тела (способность, известная как интероцепция). Подробнее разберем, как биолог Джеймс Уотсон определил структуру двойной спирали ДНК, физически манипулируя деталями из картона, которые вырезал сам, и как писатель Роберт Каро выстраивает жизни своих биографических персонажей на замысловатой карте размером со стену. Разберемся, как прогулка по итальянскому монастырю XIII века вдохновила вирусолога Джонаса Солка на завершение его работы над вакциной от полиомиелита и как художник Джексон Поллок произвел революцию в живописи, обменяв свою квартиру в оживленном центре Манхэттена на фермерский дом в зеленом районе Саут-Форк на Лонг-Айленде. Мы узнаем, как режиссеру студии Pixar Брэду Берду удается создавать классику современного кино, такую как «Рататуй» и «Суперсемейка», яростно споря со своим давним продюсером, и как физик Карл Виман, еще один лауреат Нобелевской премии, понял, как побуждение студентов разговаривать друг с другом может заставить их мыслить как ученые.
Такие истории опровергают распространенное убеждение о том, что мозг может или должен генерировать мысли самостоятельно, в одиночку. Многочисленные открытия ученых и произведения искусства – яркое свидетельство того, что лучшие идеи появляются в процессе физической активности, взаимодействия с пространством вокруг и с окружающими людьми. Но, как и в случае с достоинствами ходьбы, восхваленными Фридрихом Ницше, доказательства, подтверждающие эффективность мышления вне мозга, далеки от просто занимательных историй. Тем не менее исследования сразу в трех взаимосвязанных областях показали, что экстранейронные ресурсы играют ключевую роль в наших мыслительных процессах.
Во-первых, есть исследование воплощенного познания, изучающее связь тела и мышления: например, как жестикулирование повышает беглость нашей речи и способствует нашему углубленному пониманию абстрактных концепций. Во-вторых, существует исследование ситуационного познания, в котором рассматривается влияние места нахождения на нашу мыслительную деятельность: например, как символы окружающей среды, воплощающие собой чувство принадлежности или личного контроля, повышают нашу эффективность в этом пространстве. И в-третьих, есть исследование распределенного познания, в рамках которого разбираются эффекты от совместного мышления с другими людьми. К примеру, как работа в группе способствует объединению знаний каждого индивидуума в общую базу данных по определенной области (процесс под названием «трансактивная память»). Кроме того, это исследование также обращает внимание на то, как работа сплоченной команды приводит к результатам, которые предвосхищают индивидуальный вклад каждого из ее членов (феномен, известный как «коллективный разум»).
Как журналист, более двадцати лет освещающий открытия в области психологии и когнитивных наук, я читаю результаты исследований, полученные в этих областях, с растущим волнением. Вместе они словно подтверждают, что взаимодействие с миром вокруг делает нас умными – предположение, имеющее огромное значение для сферы образования, нашей рабочей и личной жизни. Главная проблема: до сих пор не было предпринято попыток объединить все эти многочисленные результаты. Исследователи, работающие в рамках этих дисциплин, публиковались в разных журналах и выступали на конференциях, редко выстраивая связи между своими областями специализации. Существует ли какая-то объединяющая идея, которая могла бы свести воедино эти глубоко интригующие открытия?
И снова на помощь мне пришел философ: на этот раз это был Энди Кларк, профессор когнитивной философии в Университете Сассекса в Англии. В 1998 году Кларк в соавторстве написал статью под названием «Расширенный разум», которая начиналась с обманчиво простого вопроса: «Где заканчивается разум и начинается так называемый „остальной мир“?» Кларк и его соавтор, философ Дэвид Чалмерс, писали, что мы всегда традиционно предполагали, что наш ум базируется исключительно в голове, но, утверждали они, «в черепе и коже нет ничего, заточенного строго под выполнение этой функции». Элементы внешнего мира могут эффективно воздействовать на мозг, ментально его «расширяя» и позволяя нам неординарно мыслить.
Кларк и Чалмерс изначально рассматривали, как наше сознание могут расширить технологии – заявление, которое быстро превратилось из смехотворно нелепого в очевидное, как только читатели их исследования приобрели смартфоны и стали выгружать большие фрагменты своей памяти в новые устройства. (Коллега-философ Нед Блок любит говорить, что тезис Кларка и Чалмерса, написанный в 1998 году, считался ложным, но впоследствии стал правдой – где-то, по всей вероятности, в 2007 году, когда компания Apple представила свой первый iPhone.)
Тем не менее еще в той оригинальной статье Кларк намекал на существование и других видов расширения. «А как насчет социально расширенного познания? – вопрошали он и Чалмерс. – Могут ли мои ментальные состояния частично формироваться состояниями других мыслителей? Мы не видим причин, почему бы и нет». В последующие годы Кларк продолжал оттачивать свое представление о ресурсах, которые могли бы служить продолжением разума. Он заметил, что наши физические движения и жесты играют «важную роль в расширенной нейро-телесной когнитивной экономике». Кларк также отмечал, что люди склонны создавать «дизайнерскую среду» – то есть тщательно обустроенные и продуманные пространства, «которые изменяют и упрощают вычислительные задачи, которые наш мозг должен выполнять, чтобы решать сложные проблемы». В других своих работах Кларк приводил широкие и убедительные аргументы против того, что называл «привязкой к мозгу» или «мозг-центрированностью» – точка зрения, согласно которой мышление происходит только внутри мозга, – и в пользу так называемой «расширенной» перспективы, в рамках которой богатые ресурсы нашего мира могут быть использованы и применяются в ходе нашего мышления.
Считайте меня новообращенной. Идея расширенного разума захватила мое воображение и до сих пор не отпустила. За многие годы моей репортерской деятельности я никогда прежде не сталкивалась с идеей, которая так сильно изменила бы то, как я мыслю, работаю, воспитываю детей и ориентируюсь в повседневной жизни. Мне стало очевидно, что смелое предположение Энди Кларка не было (или было не только!) эзотерическим умозрительным экспериментом философа, обитающего в башне из слоновой кости. Это было явно предложение попробовать мыслить по-другому и лучше. Когда я начала систематизировать десятки протестированных исследователями методов нестандартного мышления, то стала охотнее их использовать в повседневной жизни.
К ним относятся в том числе и способы усиления нашего интероцептивного ощущения, с помощью которых можно влиять на наши решения и умственные процессы. Например, использовать определенные типы жестов или виды физической активности, чтобы улучшить свою память и внимание. Кроме того, существуют целые инструкции, как следует отдыхать на природе, чтобы восстановить концентрацию и раскачать креативность, а также рекомендации по проектированию учебных и рабочих пространств для повышения производительности. Исследования, которые мы рассмотрим в этой книге, описывают структурированные формы социального взаимодействия, которые позволяют познанию других людей дополнять наше собственное. В них также даны рекомендации, как можно разгрузиться, глубже изучить собственные мысли и научиться эффективно их использовать, а не просто бесконечно прокручивать в голове.
Со временем я пришла к осознанию того, что я как будто получаю второе образование. За многие годы обучения в начальной и средней школе, в колледже и даже в аспирантуре нас никогда не учили мыслить нестандартно, используя все допустимые возможности. Нам не объясняли, как можно познавать мир через ощущения своего тела, пространство вокруг и взаимоотношения с людьми. Тем не менее эти знания доступны, главное – знать, где искать. Наши учителя – художники, ученые и писатели, которые на собственном опыте вывели эти методы, а также исследователи, которые наконец взялись за их изучение.
Что касается меня, то я убеждена, что не смогла бы создать эту книгу без помощи описанных в ней практик. Это не значит, что я совсем прекратила использовать установленный по умолчанию в нашей культуре способ «думать головой». До нечаянного вмешательства Фридриха Ницше в то утро я работала полностью «привязанная к мозгу», моя «голова низко склонилась» над клавиатурой, заставляя орган работать еще усерднее, вместо того чтобы искать возможности расширить его. Я благодарна за тот толчок, который дало мне мое исследование. Теперь я делюсь им с читателями.
Фредерик Грос, французский философ, благодаря которому я обратила внимание на слова Ницше, утверждает, что мыслители должны двигаться в «поисках другого света». «В библиотеках всегда слишком темно», замечает он, и потому книги, написанные там, среди остальных томов, хранят в себе эту унылую тусклость, в то время как «другие книги отражают пронизывающий горный свет или море, сверкающее в лучах солнца». Я надеюсь, что эта книга прольет «иной свет», внесет бодрящий порыв свежего воздуха в тему мышления, с которым мы ежедневно сталкиваемся как студенты и работники, как родители и граждане, как лидеры и творцы. Наше общество постоянно оказывается лицом к лицу с беспрецедентными вызовами, и нам нужно эффективно мыслить, чтобы с ними справиться. Парадигма мышления, центрированного на мозге, доминирующая сейчас, явно не соответствует поставленной задаче; куда бы мы ни посмотрели, мы видим проблемы с вниманием и памятью, с мотивацией и настойчивостью, с логическим и абстрактным мышлением. По-настоящему оригинальные идеи и инновации кажутся редкостью, а уровень активной вовлеченности в школах и компаниях низок. Людям, работающим в группах, все труднее делать это эффективно и с удовольствием.
Я пришла к осознанию, что подобные трудности в значительной степени являются результатом фундаментального непонимания того, как – и где – происходит процесс мышления. До тех пор, пока мы довольствуемся парадигмой мышления только внутри мозга, мы будем ограничены пределами этого органа. Но если мы намеренно, используя определенные навыки, выйдем за его пределы, наше мышление может измениться. Оно может стать таким же динамичным, как наши тела, таким же воздушным, как окружающее нас пространство, таким же изобильным, как наши отношения, и таким же вместительным, как весь этот огромный мир.
Введение. Думать за пределами мозга
Думай головой.
Сколько раз вы слышали эту фразу? Возможно, вы даже говорили ее кому-то другому – сыну или дочери, студенту или вашему работнику. Может, вы бормотали ее себе под нос, пытаясь решить особенно сложную проблему или советуя себе оставаться рациональным: «Думай головой!»
Эта команда звучит довольно часто: в школах, на рабочем месте, в непростые моменты повседневной жизни. Ее отклик можно найти как в элитарной, так и в массовой культуре: от «Мыслителя» Огюста Родена, задумчиво подпирающего кулаком подбородок, до выпуклого мультяшного изображения мозга, украшающего всевозможные товары и веб-сайты – развивающие игрушки, пищевые добавки, упражнения для когнитивного фитнеса. Под этой фразой мы подразумеваем: воспользуйся, наконец, мощными возможностями своего мозга, задействуй великолепный комок материи внутри своего черепа. Мы очень верим в этот комок – какой бы ни была проблема, мозгу подвластно ее решить.
Но что, если мы ошибочно выбрали объект нашей веры? Что, если совет «включать голову», каким бы общепринятым он ни был, не такой уж и правильный? Растущее количество исследований показывает, что у нас все работает с точностью до наоборот: мы слишком полагаемся на свой мозг в ущерб способности разумно мыслить. И на самом деле нам нужно мыслить за рамками этого органа.
Мыслить за пределами мозга означает вовлекать в наши ментальные процессы объекты извне – ощущения и движения нашего тела, физические пространства, в которых мы учимся и работаем, и разум окружающих нас людей – и вовлечение их в наши собственные умственные процессы. Выходя за рамки мозга и задействуя эти «экстранейронные» ресурсы, мы можем сосредоточиться более пристально, глубже понимать и создавать более образные идеи, которые были бы буквально немыслимы для одного лишь мозга. Действительно, мы больше привыкли думать о наших телах, о нашем пространстве и о наших отношениях. Но мы также можем включать их в процесс обдумывания мысли, например, используя движения рук для выражения абстрактных концепций или организуя свое рабочее пространство таким образом, чтобы оно способствовало генерированию идей, либо работать с людьми через преподавание или построение сторителлингов5 для более точного запоминания информации. Вместо того чтобы убеждать себя и других включать свою голову, нам следует задействовать экстранейронные ресурсы для мышления за пределами ограниченной окружности черепа.
Однако вы можете спросить, какая в этом необходимость? Разве мозг сам не справляется с этой задачей? На самом деле нет. Нас заставили поверить, что человеческий мозг – универсальная и всемогущая мыслящая машина. Отовсюду сочится информация об открытиях, касающихся его поразительных способностей, возможностей молниеносной скорости и пластичности. Нам регулярно твердят, что мозг – непостижимое чудо и «самая сложная структура во Вселенной». Но когда мы отстраняемся от этой шумихи, то сталкиваемся с фактом ограниченности и специфичности его функций. Менее заметной научной новостью последних нескольких десятилетий стало растущее осознание исследователями пределов возможностей мозга. Человеческий мозг не выдерживает большой нагрузки от концентрации, не способен стремительно запоминать и оперировать абстрактными понятиями, не может быть стабильно эффективен при выполнении сложной задачи.
Важно отметить, что эти ограничения касаются мозга любого человека. Это не вопрос индивидуальных различий в интеллекте. Это особенности органа, которым мы все обладаем, его биологической природы и эволюционной истории. Мозг действительно прекрасно справляется с рядом функций, такими как восприятие, перемещение тела и ориентация в пространстве, а также общение с другими людьми. Этими действиями он может управлять плавно, почти без усилий. Однако он сталкивается с трудностями в процессе запоминания сложной информации, выстраивания строгих логических рассуждений, а также схватывания на лету абстрактных идей. В этих случаях он не так безупречен, как может показаться на первый взгляд.
И тут мы подходим к общей для всех нас дилемме. Современный мир необычайно сложен, переполнен информацией и построен вокруг контринтуитивных идей, концепций и символов. Успех в этом мире требует сосредоточенного внимания, потрясающей памяти, большой скорости обработки информации, устойчивой мотивации, логической строгости и умения оперировать абстракциями. Разрыв между тем, на что способен наш биологический мозг, и тем, что требует от нас современная жизнь, велик и расширяется ежедневно. С каждым экспериментальным открытием пропасть между научным описанием мира и нашим интуитивным, «бытовым» пониманием становится все более заметной. Каждый терабайт данных, увеличивающий запас знаний человечества, обгоняет наши врожденные способности их обработать. С новым витком сложности мировых проблем наш мозг все менее способен их решить.
Наш общепринятый ответ на когнитивные вызовы, которые ставит перед нами современная действительность, заключается в усилении того, что философ Энди Кларк называет «мозг-центрированным» мышлением, – педалировании тех способностей, которые сами по себе кажутся неадекватными. Мы призываем себя и других собраться с духом, не сдаваться, «просто сделать это» – думать усерднее. Однако как часто мы, к своему разочарованию, обнаруживаем, что мозг сделан из упрямого и неподатливого материала, несмотря на всю его хваленую пластичность. Столкнувшись с его ограничениями, можно прийти к выводу, что мы сами (или наши дети, студенты, сотрудники) просто недостаточно умны или настойчивы. На самом деле проблема заключается в том, как мы справляемся с ментальными недостатками, от природы присущими нашему виду. Наш подход представляет собой (как выразился поэт Уильям Батлер Йейтс в другом контексте) «попытку воли выполнить работу воображения». Разумный шаг заключается не в том, чтобы еще сильнее пытаться задействовать мозг, а в том, чтобы научиться использовать ресурсы, лежащие за его пределами.
В комедии «Мещанин во дворянстве», написанной французским драматургом семнадцатого века Мольером, будущий аристократ месье Журден приходит в восторг от осознания разницы между прозой и стихами. «Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой!» – восклицает он. Точно так же можем быть впечатлены и мы, узнав, что уже давно задействуем в своих мыслительных процессах экстранейронные ресурсы.
Это хорошая новость. Плохая новость в том, что мы часто делаем это бессистемно, без особого намерения или умения. Неудивительно, ведь наши усилия в области образования и профессиональной подготовки, а также управления и лидерства направлены почти исключительно на развитие интеллектуального мышления. Еще с начальной школы нас учат сидеть неподвижно, работать тихо и напряженно думать – модель умственной деятельности, которая будет преобладающей в течение всех последующих лет: всю среднюю школу, колледж и, наконец, на рабочем месте. Навыки, которые мы развиваем, и техники, которым нас обучают, предполагают использование только нашего разума: закрепление информации в памяти, обдумывание и внутренние логические построения, стремление к самодисциплине и самомотивации.
Между тем совершенно отсутствует соответствующее развитие нашей способности мыслить вне рамок мозга – нет никаких инструкций, например, о том, как настраиваться на внутренние сигналы тела, на ощущения, которые могут быть с пользой применены для принятия решений и нашего выбора. Нас не учили использовать телодвижения и жесты для освоения естественных наук и математики или для выдвижения новых и оригинальных идей. В школе не обучают тому, как восстановить свое истощенное внимание с помощью пребывания на природе и на свежем воздухе или как организовать свое учебное пространство так, чтобы расширить возможности своего интеллектуального мышления. Учителя и менеджеры не объясняют, как превратить абстрактные идеи в физические объекты, чтобы использовать их для новых открытий и решения проблем. Сотрудникам не показывают, как социальные практики подражания и коллективное обучение могут ускорить процесс получения необходимого опыта. Школьные группы и рабочие коллективы не обучаются методике эффективного повышения коллективного интеллекта своих членов. Наша способность мыслить вне пределов мозга остается почти полностью неразвитой.
Подобное упущение – результат «нейроцентрического предубеждения». Иными словами, нашей идеализации и в некоторых моментах даже фетишизации мозга и соответствующего слепого пятна для всех способов познания, выходящих за пределы черепа. (Как заметил комик Эмо Филипс: «Раньше я думал, что мозг – самый замечательный орган в моем теле. А потом я осознал, кто мне это говорил».) С другой стороны, у нас есть уникальная возможность открыть мир нереализованного потенциала. До недавнего времени наука разделяла такое пренебрежительное отношение широкой культуры к мышлению вне мозга. Теперь все изменилось. В настоящий момент психологи, когнитивисты и нейробиологи могут четко объяснить, как экстранейронные сигналы влияют на процесс обдумывания информации. Кроме того, сейчас существуют практические рекомендации по улучшению нашей способности мыслить через внешние для мозга ресурсы. Все это происходит на фоне более обширной темы – как мы понимаем себя.
Прежде чем продолжить, вернемся на несколько шагов назад, к тому моменту, когда родились современные представления о мозге.
* * *
14 февраля 1946 года в залах Электротехнической школы Мура в Филадельфии царила напряженная суета. В этот день миру должны были представить секретную жемчужину школы – ENIAC. Внутри запертой комнаты в одном из зданий Мура жужжали электронный числовой интегратор и компьютер – первая машина такого рода, способная выполнять вычисления со скоростью молнии. Массивный ENIAC весом в тридцать тонн включал в себя около восемнадцати тысяч вакуумных ламп, около шести тысяч переключателей и более полумиллиона паяных соединений. На его строительство ушло более 200 000 человеко-часов.
Устройство размером с автобус было детищем Джона Мочли и Дж. Преспера Эккерта-младшего, двух молодых ученых из Пенсильванского университета, головного учреждения Мура. При финансовой поддержке армии США ENIAC был разработан с целью вычисления траекторий артиллерийских снарядов для американских артиллеристов на случай войны в Европе. Составление таблиц траекторий, необходимых для эффективного применения нового оружия, было трудоемким процессом, требующим нескольких команд людей, работающих круглые сутки посменно. Машина, которая могла бы заменить человеческий ресурс и выполнять свою работу быстро и точно, дала бы армии неоценимое преимущество.
Bepul matn qismi tugad.