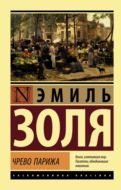Kitobni o'qish: «Нана»
© Перевод. Н. М. Жаркова, наследники, 2019
© Агентство ФТМ, Лтд., 2019
* * *
I
Пробило девять, а зал театра Варьете был еще пуст. Лишь кое-где на балконе и в партере терпеливо ожидали начала немногочисленные зрители, затерявшиеся среди гранатового бархата кресел, в слабом сумеречном свете приспущенной люстры. Громадное алое пятно занавеса расплывалось во мраке; сцена безмолвствовала, рампу еще не зажигали, еще не расставили по местам сдвинутые в беспорядке пюпитры оркестрантов. Только в райке, ютившемся под расписным плафоном, где обнаженные девы и младенцы порхали в небесах, давно позеленевших от испарений газа, – слышался сдержанный непрерывный гул голосов, смех и выкрики; там уступами уходили ввысь к большим круглым окнам в золоченых рамах ряды чепцов и каскеток. В ложах время от времени появлялись билетерши и, с озабоченным видом держа билеты в руке, пропускали вперед очередную пару, чинно садившуюся на свои места: мужчина во фраке, при нем дама – тоненькая, затянутая, с томно блуждающим взором.
В креслах показались двое молодых людей. Не присаживаясь, они стали разглядывать зал.
– Ну что я тебе говорил, Гектор! – воскликнул тот, что был постарше, высокий брюнет с усиками. – Чего ради ты притащил меня так рано? Даже сигару не дал докурить.
Мимо прошла билетерша.
– Верно, господин Фошри, – фамильярно бросила она, – начнут уж никак не раньше, чем через полчаса.
– Зачем же писать в афишах, что начало в девять, – буркнул Гектор, досадливо кривя свое длинное худое лицо. – Еще сегодня утром Кларисса уверяла меня, что начнется в девять, а ведь она знает, сама занята в пьесе.
Они прервали беседу и, закинув голову, старались проникнуть взором в полумрак лож. Но зеленая обивка, казалось, еще сгущала тени. Внизу под галереей утопали в полной мгле ложи бенуара. В ложе балкона сидела одна-единственная зрительница – какая-то полная дама, тяжело опиравшаяся на бархатный барьер. Справа и слева от сцены, между высоких колонн, еще пустовали литерные ложи, задрапированные занавесями с длинной бахромой. Белизна и позолота зала, оттененные нежно-зелеными тонами, еле проступали сквозь легкую пелену света, льющегося из большой хрустальной люстры, где газовые рожки только еще начинали разгораться.
– А ты достал ложу для Люси? – спросил Гектор.
– Достал, но с каким трудом! – ответил его спутник. – Не беспокойся, Люси раньше времени не явится.
Он подавил зевок и после минутного молчания добавил:
– Тебе повезло, ты ведь еще никогда на премьерах не бывал… «Белокурая Венера» наверняка будет гвоздем сезона. О ней уже целых полгода трезвонят. Ах, дружок, какая музыка! Шик!.. Борденав, а он в таких делах знаток, недаром приберег пьесу для Выставки.
Гектор слушал его слова с благоговейным вниманием. Потом спросил:
– А эту Нана, новую звезду, которая играет Венеру, – ты ее знаешь?
– Господи! И ты туда же! – воскликнул Фошри, воздевая к небесам руки. – С самого утра меня допекают этой Нана. Я нынче встретил человек двадцать, и все как сговорились, Нана да Нана!.. А я почем знаю! Неужели я обязан помнить всех парижских девок?.. Нана – новое открытие Борденава. Этим все сказано!
Он замолчал, успокоился. Но вид пустого зала, тусклый свет люстры, какое-то почти церковное благолепие, благолепие храма, где человек невольно переходит на шепот, боится хлопнуть дверью, снова вывели его из равновесия.
– Ну, нет уж, – неожиданно заявил он, – с меня хватит! Лично я ухожу. Может, нам посчастливится обнаружить внизу Борденава. И даже узнать кое-какие подробности.
В огромном вестибюле, выложенном мраморными плитами, у контроля уже начали толпиться зрители. Сквозь распахнутые двери видны были бульвары, где под высоким небом апреля шла своя особая жизнь с жаркой сутолокой и сверканием огней. Стук карет резко обрывался у подъезда, громко хлопали дверцы; зрители по двое, по трое входили в вестибюль, задерживались у контроля, поднимались по расположенной в глубине вестибюля лестнице, расходившейся направо и налево двумя маршами; на ступеньках с умыслом медлили, играя гибкой талией, дамы. В беспощадном свете газа, среди мертвенной наготы вестибюля, которому жалкие колонны в стиле ампир придавали сходство с храмом, воздвигнутым из папье-маше, бросались в глаза длинные афиши, где на желтом фоне огромными черными буквами выделялось имя НАНА. Мужчины останавливались и впивались глазами в афишу; уже прочитавшие толпились в дверях, загораживая проход; а у билетной кассы толстяк с широким гладко выбритым лицом грубо огрызался в ответ на просьбы желающих получить билетик.
– Вот он, Борденав, – сказал Фошри, спускаясь по лестнице.
Но директор уже заметил его.
– Хорош, нечего сказать! – крикнул он снизу. – Где она, обещанная статейка? Открываю утром «Фигаро», и хоть бы слово!
– Да подождите, – отбивался Фошри. – Надо сначала посмотреть вашу Нана, а потом уже о ней писать… Кстати, я вам ровно ничего не обещал.
Желая положить конец пререканиям, он представил директору своего кузена Гектора де Ла Фалуаз, прибывшего в Париж с намерением завершить здесь свое образование. Директор бросил на юношу быстрый оценивающий взгляд. А Гектор в волнении уставился на него. Так вот каков он – знаменитый Борденав, владелец труппы дрессированных девиц, их тюремщик, неистощимый поставщик сенсационных новинок, вот он, этот циник с замашками жандарма, – орет, брызжет слюной, хлопает себя по ляжкам. Гектор решил, что обязан начать разговор с какой-нибудь любезной фразы.
– Ваш театр… – произнес он медовым голоском.
Но Борденав прервал его бесцеремонным словечком, как человек, не склонный приукрашивать истину.
– Скажите лучше – мой бордель.
Фошри одобрительно фыркнул, а шокированный Ла Фалуаз, поперхнувшись комплиментом, старался сделать вид, что оценил остроту. Тут директор бросился здороваться с театральным критиком, чьи фельетоны имели немалый вес. Когда он снова подошел к молодым людям, Ла Фалуаз уже успел оправиться от смущения. Пуще всего он боялся, что будет мяться, и тогда в нем признают провинциала.
– Мне говорили, – начал он, не желая сдаваться, – что у Нана прелестный голос.
– Это у нее-то?! – воскликнул директор, пожимая плечами. – Визжит, как драная кошка!
Юноша поспешил исправить свой промах:
– Зато великолепная артистка.
– Это она-то!.. Тумба тумбой, ни рукой, ни ногой двинуть не умеет.
Легкая краска проступила на скулах Ла Фалуаза. Он окончательно отказывался что-либо понимать. И пробормотал:
– Ни за какие блага мира я не пропустил бы нынешней премьеры. Мне известно, что ваш театр…
– Мой бордель… – снова поправил его Борденав с холодным упрямством человека, которого не так-то легко сбить с его позиций.
Тем временем невозмутимый Фошри разглядывал входивших дам. Он поспешил на помощь кузену, который стоял разинув рот, не зная, смеяться ему или обидеться.
– Ну что тебе стоит порадовать Борденава, называй его театр, как он тебя просит, раз ему так хочется… А вы, дружок, бросьте нас морочить. Если ваша Нана не умеет ни петь, ни играть, спектакль просто-напросто провалится. Впрочем, боюсь, что так оно и будет.
– Провалится! Провалится! – завопил директор, багровея от негодования. – Да кто вам сказал, что женщина должна уметь петь и играть! Ах, детка, ты, как я погляжу, просто дурак… У Нана есть нечто другое, и это-то другое все заменит, уж поверь мне. У меня на такие вещи нюх, так вот этого другого у Нана хоть отбавляй, или я, старый болван, ничего не стою… Вот увидишь, сам увидишь, стоит ей выйти на сцену, и весь зал ахнет.
Он вскинул к потолку свои огромные ручищи, которые тряслись от восторга; облегчив душу, он понизил голос и пробормотал про себя:
– Да, она далеко пойдет, далеко, уж поверьте… Кожа-то, кожа какая…
И так как Фошри не отставал, Борденав снизошел и сообщил кое-какие подробности в столь откровенных выражениях, что Гектор де Ла Фалуаз сконфузился… По словам Борденава, Нана он знал раньше и решит дать ей ход. Кстати, он тогда как раз искал Венеру для новой пьесы. Лично он не любитель долго возиться с новенькими, пускай публика получит свое удовольствие. Ну и хлебнул же он горя, когда эта рослая девица появилась в их заведении, – чуть бунт не поднялся. Роза Миньон, главная его звезда, она и поет прекрасно и играет отлично, так вот Роза совсем разъярилась, почуяв соперницу, каждый божий день грозит бросить его на произвол судьбы. А с афишами-то что было, боже мой! В конце концов он велел набрать имена обеих артисток одинаково крупным шрифтом. Пусть только оставят его в покое. А если кто-нибудь из его девочек, как он именовал своих артисток, скажем, Симона или Кларисса, заартачится, он, не беспокойтесь, сумеет дать им пинка пониже спины. Иначе от них житья не будет. Он, слава богу, перевидал их на своем веку, знает им цену, этим шлюхам!
– Смотрите-ка! – прервал он свой рассказ. – Наши неразлучные пришли – Миньон со Штейнером. Роза, знаете ли, порядком прискучила Штейнеру, ну вот муж за ним и ходит по пятам, боится, как бы тот не дал тягу.
От газовых рожков, зажженных на фронтоне театра, пролегла по тротуару светлая полоса. Два ярко-зеленых деревца четко вырисовывались на фоне неба; свет газа придавал колонне неестественную белизну, и можно было, как днем, издали прочесть афишу; а там, еще дальше, огни буравили сгустившийся мрак бульваров, где смутно угадывалось непрерывное движение толпы. Подходившие к театру мужчины не спешили войти и, остановившись у входа, беседовали, докуривая сигару; газовые рожки окрашивали их лица в синеватый цвет, и на асфальт ложились кургузые тени. Миньон, чересчур высокий, чересчур широкоплечий, с четырехугольным, как у ярмарочного борца, черепом, легко прокладывал в толпе дорогу, волоча за собой банкира Штейнера, низенького, пузатенького, круглолицего, с седеющей бородкой.
– Ну так вот! – обратился Борденав к банкиру. – Вчера вы как раз и видели ее у меня в кабинете.
– Ах, значит, это она! – воскликнул Штейнер. – Я так и думал. Но мы с ней столкнулись уже на пороге, и я даже не успел ее как следует разглядеть.
Миньон прислушивался к разговору, не подымая опущенных век, нервическим жестом вертя вокруг мизинца перстень с огромным бриллиантом. Он сразу понял, что речь идет о Нана. Но Борденав так живо набросал портрет своей дебютантки, что в глазах банкира вспыхнул огонек, и тут Миньон решил вмешаться.
– Да бросьте, милый, самая обыкновенная потаскушка! Публика ей еще покажет… Штейнер, голубчик, моя жена ждет вас у себя в уборной.
Он попытался было увести его силой. Но Штейнер не желал расставаться с Борденавом. Прямо перед ними зрители, выстроившись цепочкой, напирали на контролеров, и среди нестройного гула голосов все чаще слышалось имя Нана – два коротких певучих слога. Мужчины, толпившиеся у афиш, громко скандировали это имя; другие бросали его на ходу, как вопрос; а женщины с тревожной улыбкой на устах повторяли его тихонько, с удивлением. Никто не знал Нана. Откуда она взялась, эта самая Нана? Шепотом, на ушко друг другу, передавались шуточки, анекдоты. Само имя уже звучало как ласка, уменьшительное имя, становившееся интимным в любых устах. Достаточно было произнести его вот так вслух, и толпой овладевало веселое благодушие. Всех охватила лихорадка любопытства, того особого парижского любопытства, которое по силе можно сравнить только с приступом горячки. Всем хотелось видеть Нана. В толчее какой-то даме оторвали оборку, какой-то господин потерял шляпу.
– Нет, это уж слишком! – завопил Борденав, когда человек двадцать насели на него с вопросами. – Сами увидите… А я бегу, меня ждут.
Он исчез в восторге от того, что сумел разжечь свою публику. Миньон, пожав плечами, напомнил Штейнеру, что Роза давно ждет их, – хочет показать свой костюм для первого акта.
– Смотри, вон Люси выходит из кареты, – сказал Ла Фалуаз, обращаясь к Фошри.
Это действительно оказалась Люси Стюарт, маленькая дурнушка лет под сорок; шея у нее была слишком длинная, личико помятое, губы слишком крупные, но необычайное изящество и живость движений придавали ей какое-то особое обаяние. Она привезла с собой Каролину Эке и ее матушку; Каролина поражала холодной красотой, а матушка, весьма достойная особа, походила на чучело.
– Пойдешь с нами, я тебе оставила место, – скомандовала Люси, обращаясь к Фошри.
– Нет уж, увольте! Оттуда ничего не видно, – ответил он. – У меня кресло, предпочитаю сидеть в партере.
Люси взорвалась. Значит, он просто боится показываться с ней? Потом, так же внезапно успокоившись, заговорила о другом.
– Почему ты мне не сказал, что знаешь Нана?
– Я? Да я ее в глаза не видал!
– Ох, так ли? А меня уверяли, будто ты с ней спал.
Но стоявший рядом Миньон, приложив к губам палец, призвал их к молчанию. И в ответ на вопросительный взгляд Люси прошептал, показав на молодого человека, проходившего мимо:
– Ее дружок!
Присутствующие взглянули на молодого человека. Он был весьма недурен собой. Оказалось, Фошри его знает: это Дагне; мальчик уже успел просадить на женщин миллиона три и сейчас крутится на бирже, чтобы заработать на букет для какой-нибудь очередной дамы или угостить ее обедом. Люси объявила, что у него прелестные глаза.
– А вот и Бланш! – воскликнула она. – Кстати, Бланш мне и сказала, что ты спал с Нана.
Бланш де Сиври, рослую блондинку с хорошеньким, но преждевременно расплывшимся личиком, сопровождал хилый, очень выхоленный и очень элегантный господин.
– Граф Ксавье де Вандевр, – шепнул Фошри на ухо Ла Фалуазу.
Граф обменялся рукопожатием с журналистом, а Бланш с Люси, не теряя времени, вступили в бурное объяснение. Одна была в розовом, другая – в голубом; своими широкими юбками в воланах они загородили весь проход, и имя Нана произносилось обеими дамами так часто и так громко, что к ним уже стали прислушиваться. Граф де Вандевр увел Бланш. Но теперь имя Нана звучало уже во всех уголках вестибюля, накаляя страсти заждавшихся зрителей. Почему, в самом деле, не начинают? Мужчины то и дело вынимали из жилетного кармана часы, опаздывающие выскакивали на ходу из карет, зрители, толпившиеся на улице, потянулись к дверям, а случайные прохожие, вступая в полосу света на опустевшем тротуаре, замедляли шаги, вытягивали шеи, стараясь заглянуть в вестибюль. Какой-то мальчишка, насвистывая песенку, пробежал было мимо театра, но вдруг остановился перед афишей, хрипло выкрикнул: «Эй ты, Нана!» – и пошел дальше развинченной походкой, шаркая стоптанными башмаками. Раздался взрыв смеха. Вполне пристойные с виду господа повторяли вслед за сорванцом: «Нана, эй, Нана!» Началась давка у контроля, вспыхнул скандал, голоса, призывавшие Нана, требовавшие Нана, сливались в нестройный гул; толпа, как всякая толпа, была рада поддаться любой глупой забаве, любому порыву низменной чувственности.
Но над этим содомом внезапно послышалось треньканье звонка, возвещавшего о начале спектакля. Гам переплеснулся на бульвар: «Звонят, звонят!»; каждый энергично прокладывал себе дорогу в толпе, так что пришлось прислать подкрепление контролерам. Встревоженному Миньону удалось наконец сдвинуть с места Штейнера, который так и не удосужился посмотреть Розин костюм. При первом же звяканье колокольчика Ла Фалуаз, испугавшись, что они не поспеют к увертюре, потащил за собой Фошри, прокладывая дорогу локтями. Это излишнее рвение публики бесило Люси Стюарт. Ну и грубияны, женщину готовы затолкать! Она нарочно замешкалась вместе с Каролиной Эке и ее матушкой. Вестибюль опустел, только во входные двери все еще врывалось протяжное гудение бульвара.
– Хоть бы пьесы у них были веселые, и того нет, – твердила Люси, поднимаясь по лестнице.
В зале Фошри и Ла Фалуаз, стоя у своих кресел, вновь огляделись вокруг. Теперь все здесь сияло. Длинные язычки газа играли на хрустальных подвесках люстры, брызги розовых и желтых огней дождем падали от плафона до партера. Темно-гранатовая обивка кресел отливала теперь алым, а игра позолоты смягчалась нежной зеленью орнамента, и только роспись плафонов сохраняла свою неумеренную яркость. Рампа словно пламенем зажгла тяжелый пурпурный занавес, сказочно богатый, как в волшебных замках, зато еще резче выступило убожество портала, где трещины обнажили штукатурку под позолотой. Становилось жарко. Рассевшись перед пюпитрами, оркестр настраивал инструменты, и среди крепнувшего гула голосов проносилась то легчайшая трель флейты, то сдержанный вздох валторны, то певучий голос скрипки. Зрители говорили все разом, толкались, рассаживались по местам, добытым с боя; в коридорах скопилась уйма народу, и в двери с трудом просачивался неиссякаемый людской поток. Махали друг другу, шуршали шелка, в затейливый хоровод юбок и причесок то тут, то там врезалось черное пятно фрака или редингота. Меж тем ряды кресел заполнялись; кое-где резко выделялся светлый туалет, головка с нежным профилем клонилась под тяжестью шиньона, среди локонов вспыхивала молния диадемы. В ложе изгиб оголенного плечика отливал атласной белизной. Дамы, уже успевшие усесться, томно обмахивались веером, спокойно наблюдая за суетой, а в партере молодые люди в слишком низко вырезанных жилетах, с гарденией в петлице, наводили на ложи бинокль, держа его самыми кончиками пальцев, обтянутых белыми перчатками.
Кузены Ла Фалуаз и Фошри тоже стали искать знакомые лица. Миньон и Штейнер восседали бок о бок в бенуаре, чинно положив ладони на бархат барьера. Бланш де Сиври, казалось, занимала своей особой всю литерную ложу бельэтажа. Но особенно внимательно Ла Фалуаз разглядывал Дагне, который тоже сидел в креслах двумя рядами ближе к сцене. Рядом с ним оказался совсем юный мальчик, лет семнадцати, не более, видимо улизнувший школяр; он смотрел вокруг широко открытыми глазами, прекрасными, как у херувима. Фошри не мог сдержать улыбки.
– А что это за дама на балконе? – вдруг спросил Ла Фалуаз. – Вон та, рядом с которой сидит девушка в голубом.
Он показал на дебелую даму, туго затянутую в корсет, по-видимому, бывшую в свое время блондинкой, а теперь перекрасившую седые волосы в соломенный цвет, с нарумяненной круглой физиономией, казавшейся еще круглее из-за мелко завитой гривки, по-детски спущенной на лоб.
– Это Гага, – лаконически ответил Фошри.
Заметив, что имя ее удивило кузена, он пояснил:
– Разве ты не слышал про Гага? Краса самых первых лет царствования Луи-Филиппа. Теперь она повсюду таскает за собой дочку.
Ла Фалуаз даже не взглянул на молоденькую девушку. Его заинтересовала сама Гага, он не спускал с нее глаз; он находил, что и сейчас еще она совсем недурна, однако не посмел высказать свое мнение вслух.
Тем временем дирижер поднял палочку, музыканты грянули увертюру. Зрители по-прежнему входили в зал, суета и шум удесятерились. У этой публики имелись здесь свои излюбленные укромные уголки, где завсегдатаи премьер улыбались при встрече незнакомым как знакомым. Они не снимали шляп, раскланивались направо и налево и вообще чувствовали себя в театре как дома. Весь Париж был здесь, – Париж литературный, финансовый, прожигающий жизнь, множество журналистов, кое-кто из писателей, биржевики, девицы легких нравов, превосходившие численностью порядочных женщин; целый мир, странная смесь, где попадаются все таланты, все пороки, но где все лица отмечены одной и той же печатью усталости и лихорадочного возбуждения. Фошри, еле успевая отвечать на вопросы кузена, показал ему ложу, отведенную для прессы и членов театрального клуба, потом обратил его внимание на двух театральных критиков, одного худенького, высохшего, с тонкогубым злым ртом и другого – толстяка с детски благодушной физиономией, – этот все жался к плечу своей соседки, молоденькой актрисочки, не спуская с нее отечески нежного взгляда.
Но, увидев, что Ла Фалуаз кланяется каким-то господам в ложе напротив сцены, он прервал свой рассказ. Он был явно удивлен.
– Как, ты, оказывается, знаком с графом Мюффа де Бевиль? – осведомился он.
– Давным-давно, – ответил Гектор. – Поместье Мюффа расположено неподалеку от нашего. Я у них часто бывал… Граф здесь со своей женой и тестем, маркизом де Шуар.
И, не скрывая тщеславного удовольствия, что и ему тоже удалось поразить кузена, Гектор пустился в подробности: маркиз был государственным советником, графа на днях назначили камергером при особе императрицы. Фошри поднес к глазам бинокль, разглядывая графиню, пухленькую брюнетку с очень белой кожей и лучистыми черными глазами.
– Представишь меня во время антракта, – сказал он, окончив осмотр. – С графом я встречался, но мне хочется попасть на их вторники.
Энергичное «тише!» донеслось с галерки. Увертюра уже гремела, а публика все продолжала входить. Из-за одного опоздавшего приходилось подниматься целому ряду партера, хлопали двери лож, в коридорах шли громкие споры. И гул голосов не стихал ни на минуту, словно расчирикалась напропалую перед закатом солнца стая воробьев. Все окончательно смешалось – машущие руки, головы; одни садились, стараясь поудобнее устроиться в креслах, другие упорно торчали посреди зала, желая в последний раз окинуть его взглядом. Из темных глубин партера донесся яростный крик: «Садитесь! Садитесь!» По толпе зрителей пробежала дрожь: наконец-то они увидят эту Нана, о которой им столько наговорили и которой вот уже целую неделю занимался весь Париж.
Мало-помалу волна голосов спадала, разговоры затихли, лишь изредка слышался чей-то густой бас. И среди приглушенного шепота и замирающих вздохов вдруг стал слышен оркестр, посылавший в зал зажигательные звуки легкого вальса, в пошлом ритме которого слышался задорный смех. Публику так и разбирало, рты растягивались в улыбку. А клакеры, сидевшие в первых рядах, разразились неистовыми рукоплесканиями. Поднялся занавес.
– Смотри-ка, – проговорил неугомонный Ла Фалуаз, – у Люси в ложе какой-то незнакомый господин.
Он не отрываясь смотрел на ложу с правой стороны балкона, где на передних креслах сидели Люси и Каролина. В глубине виднелась благообразная физиономия г-жи Эке-старшей, матушки Каролины, и профиль какого-то высокого, безукоризненно одетого молодого человека с прекрасной белокурой шевелюрой.
– Да посмотри же, – твердил Ла Фалуаз, – там какой-то господин.
Фошри снизошел к просьбе кузена и направил на ложу бинокль. Но тотчас же отвернулся.
– Да это же Лабордет, – пробормотал он беспечным тоном, будто присутствие вышеназванного господина в чужой ложе было более чем натурально и ровно ничего не означало.
Позади их раздался крик: «Тише, вы!» Пришлось замолчать. Теперь от партера до амфитеатра зал оцепенел; застыла в сосредоточенном внимании зыбкая линия голов. Первое действие «Белокурой Венеры» происходило на Олимпе, на некоем картонном Олимпе, с троном Юпитера направо и облаками вместо кулис. Сначала появились Ирида и Ганимед в окружении хора небесной челяди, – не переставая петь, хористы расставляли по сцене сиденья, предназначенные для богов, собравшихся на совет. Снова из того ряда, где сидели клакеры, послышалось «браво!», но публика их не поддержала. Она еще не освоилась и ждала. Только Ла Фалуаз громко зааплодировал при появлении Клариссы Беню – одной из девочек Борденава, которая играла Ириду и одета была в нежно-голубую тунику, подпоясанную широким семицветным шарфом.
– Знаешь, чтобы надеть этот костюм, ей пришлось снять сорочку, – пояснил он кузену, умышленно не понижая голоса. – Утром мы с ней устроили примерку… Сорочка вылезала на спине и под мышками.
Но тут по залу пробежал легкий трепет. На сцену вышла Роза Миньон в костюме Дианы. И хотя эта смуглая худенькая женщина с восхитительно неправильной, как у парижского гамена, мордочкой не подходила для роли Дианы ни лицом, ни фигурой и скорее уж была пародией на мифологическую богиню, – как раз этим она и пленила зал. Свою выходную арию с отчаянно глупыми словами – жалобой на изменника Марса, который собирается бросить ее ради Венеры, – она пропела сдержанно, даже целомудренно, однако так сумела подчеркнуть голосом каждый игривый намек, что сразу расшевелила зрителей. Ее муж и Штейнер, сидевшие бок о бок, снисходительно посмеивались. И весь зал разразился хохотом, когда на сцене появился Марс-Прюльер, признанный любимец публики, в генеральской форме, с гигантским плюмажем на треуголке, волоча за собой длиннющую саблю, которая упиралась ему эфесом под мышку. Хватит с него Дианы, надоела; слишком о себе много воображает. Тогда Диана клянется подстеречь неверного и отомстить. Дуэт закончился шутливой песенкой, которую Прюльер спел очень весело на тирольский лад, то взвизгивая, то урча, как рассвирепевший кот. Держался он с забавным фатовством избалованного первого любовника и так фанфаронски вращал глазами, что дамы в ложах покатывались со смеху.
Но вскоре публика опять охладела к пьесе; следующие сцены показались ей скучноватыми. Только старику Боску, игравшему придурковатого Юпитера и нацепившему огромную корону, которая то и дело соскальзывала ему на уши, удалось ненадолго рассмешить публику в сцене ссоры с Юноной из-за счета на провизию. А шествие богов – Нептуна, Плутона, Минервы и прочих – чуть было не загубило спектакля. Публика потеряла терпение, в зале постепенно стал нарастать тревожный шепот, утратившие интерес зрители отворачивались от сцены и рассматривали зал. Люси пересмеивалась с Лабордетом; граф де Вандевр тянул шею, стараясь выглянуть из-за мощных плечей Бланш; а Фошри тем временем украдкой бросал взгляды на семейство Мюффа, на графа, сидевшего с таким видом, будто он не понимал, что происходит на сцене, на улыбающуюся своим мыслям графиню, мечтательно и рассеянно глядевшую куда-то вдаль. Но внезапно среди этого тягостного уныния раздались аплодисменты клакеров, громкие и размеренные, словно повзводная стрельба. Все головы повернулись к сцене. Неужели наконец появилась Нана? Эта Нана слишком уж заставляет себя ждать.
Но появилась под водительством Ириды с Ганимедом делегация смертных, почтенных обывателей; обманутые мужья пришли принести владыке богов жалобу на Венеру, зачем-де она воспламеняет страстями их жен. Нарочито наивная жалоба хора, прерываемая долгими многозначительными паузами, развеселила публику. Весь зал облетело чье-то крылатое словцо: «Хор рогачей, хор рогачей», – и оно так и осталось за этим номером. Раздались крики «бис!». Да и у самих хористов вид был забавный, вполне подходящий к случаю; особенно пришелся по вкусу публике один толстяк с круглой, как полная луна, физиономией. Тем временем на сцену выскочил разъяренный Вулкан, требуя свою супругу, которая вот уже три дня находится в бегах. Снова вступил хор, взывая к богу рогоносцев Вулкану. Его играл Фонтан, комический актер самобытного, но вульгарного дарования, неуемной разнузданной фантазии. Вулкана он изображал в виде сельского кузнеца в огненно-рыжем парике, с обнаженными руками, покрытыми, точно татуировкой, изображением пронзенных стрелой сердец. Какая-то женщина, не удержавшись, воскликнула на весь зал: «Ну и урод!» Слова ее были покрыты смехом и аплодисментами.
Следующая сцена показалась публике бесконечно растянутой. Юпитер никак не мог собрать совет богов, дабы обсудить петицию рогоносцев. А Нана так и не появлялась. Неужели ее выпустят на сцену только под занавес? Это бесконечно долгое ожидание стало раздражать публику. Снова послышался шепот.
– Дело плохо, – твердил, сияя, Миньон банкиру Штейнеру. – Зря публику заманивают!
В эту самую минуту облака в глубине сцены раздвинулись, и показалась Венера. Нана, очень рослая, очень дородная для своих восемнадцати лет, в белой тунике, как и положено небожительнице, с распущенными по плечам без всяких ухищрений длинными белокурыми волосами, спокойно и самоуверенно приблизилась к рампе, улыбнулась публике. И завела свою выходную арию:
Однажды вечерком Венера…
Когда певица начала второй куплет, весь зал удивленно переглянулся. Что это, шутка, новая блажь Борденава, или он просто побился с кем-нибудь об заклад? Никогда еще на театральных подмостках не звучал такой фальшивый голос, выдававший полное отсутствие школы. Прав был директор Варьете, заявив, что она поет, как драная кошка. И к тому же не умеет даже держаться на сцене, нелепо выбрасывает вперед руки, покачивается всем телом, что, во-первых, малопристойно, а во-вторых, просто неизящно. В креслах уже послышалось возмущенное «о! о!», уже засвистели на приставных местах, как вдруг в партере раздался чей-то ломающийся, как у молодого петушка, голос.
– Шикарно! – провозгласил говоривший с непоколебимой убежденностью.
Весь зал уставился на смельчака. Им оказался тот самый херувимчик, школяр, улизнувший из коллежа; он таращил на Нана свои красивые глаза, его окаймленное белокурыми локонами лицо разгорелось. Заметив, что все бинокли и взоры устремились на него, он побагровел от стыда, сообразив только сейчас, что кричал во все горло. Дагне с улыбкой наблюдал за своим соседом, свист прекратился, и публика захохотала, как бы обезоруженная этим возгласом; а молодые люди в белых перчатках громко захлопали, млея от восторга при виде округлых форм Нана:
– Прелестно! Превосходно! Браво!
А Нана, увидев, что зал хохочет, тоже расхохоталась. Все окончательно развеселились. Эта красотка и впрямь забавная. Когда она смеялась, на подбородке у нее виднелась очаровательная ямочка. Она переждала взрыв веселья, ничуть не смутившись, сразу же освоившись на сцене; казалось даже, она подмаргивает публике, как бы говоря, что таланта у нее действительно ни на грош, что она не тем, мол, берет. И, махнув дирижеру рукой, как бы говоря: «А ну, давай, дружок!» – она затянула второй куплет:
Когда Венера в час ночной…
Пела она все тем же пронзительным голосом, но теперь голос этот задевал как раз те струны, которые требуется, чтобы бросить публику в легкую дрожь. Нана по-прежнему откровенно смеялась, смех порхал на ее ярко-красных губах и зажигал озорные огоньки в огромных светло-лазоревых глазах. В чересчур игривых местах она плотоядно морщила носик, розовые ноздри ее раздувались, а щеки заливал румянец. Она все так же нелепо раскачивалась всем телом, видимо, ничего другого она на сцене делать не умела. Но теперь это покачивание уже не казалось публике таким неуклюжим, напротив: мужчины не отрывали от сцены биноклей. Когда Нана заканчивала свои куплеты, ей совсем изменил голос, и она сама поняла, что ей ни за что не допеть арию до конца. Тогда, ничуть не тревожась, она вильнула бедром, обнаружив его приятную округлость сквозь прозрачную тунику, выставила грудь, закинула голову, а обе руки протянула вперед. Раздались аплодисменты. И сразу же Нана повернулась к залу спиной и направилась за кулисы, показав публике гриву рыжих волос, вольно рассыпавшихся по спине, – и весь зал разразился рукоплесканиями.