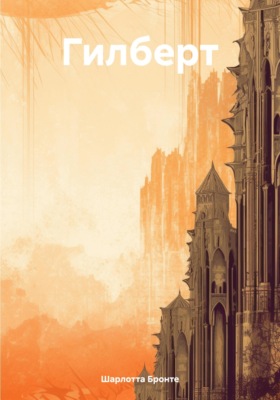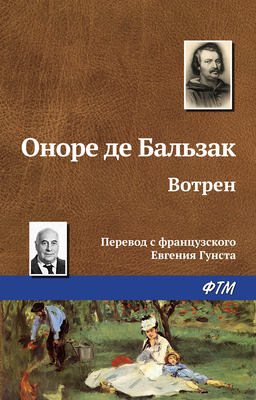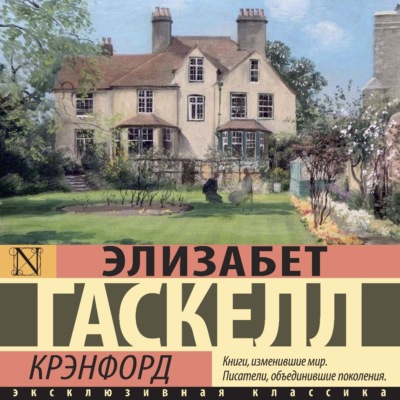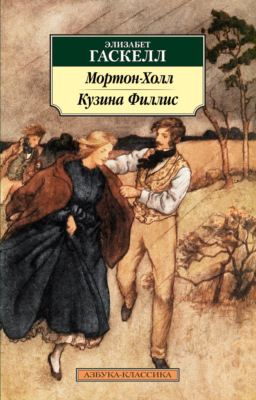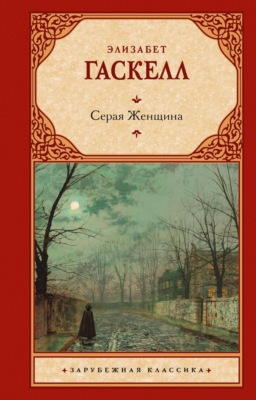Kitobni o'qish: «Учитель французского языка»
Дом отца моего находился в провинции, в семи милях от ближайшего города. Отец мой служил во флоте, но повстречавшийся с ним несчастный случай лишил его возможности продолжать морскую службу и принудил не только уступить свое место другому, но и отказаться от всяких надежд на половинную пенсию. Он имел небольшое состояние, да и к тому же и мои мать вышла за него не без приданого: при этих средствах, купив дом и десять или двенадцать акров земли, он сделался фермером-аматером и занялся сельским хозяйством в небольших размерах. Моя мать радовалась, что операции его не имели большего размера, и когда отец мой выражал сожаление (что делалось весьма нередко) о том, что нет никакой возможности прикупить в соседстве еще немножко земельки, я всегда замечала, что при этих словах в голове матери производились выкладки и расчисления следующего рода: «если двенадцать акров, которыми он управляет, приносят убытку сто фунтов стерлингов в год, то как велик был бы убыток, если б он владел полутораста акрами?» А когда необходимость заставляла моего отца представлять отчет в деньгах, истраченных на содержание фермы, устроенной по понятиям истого моряка, он постоянно приводил такое оправдание:
– Надо только вспомнить о здоровье и удовольствии, которое доставляет нам разработка окрестных полей! Ведь надобно же чем-нибудь заниматься и смотреть за чем-нибудь!
В этих словах заключалось столько истины, что каждый раз, когда отец приводил их в свое оправдание, моя мать не решалась возражать ему ни словом. Перед чужими же он всегда доказывал возможность распространить свое хозяйство доходами, которые оно приносило. Он часто увлекался подобными доказательствами, пока не встречал предостерегающего взгляда моей матери, ясно говорившего, что она еще не до такой степени углубилась в предмет собственного своего разговора, чтоб не слышать его слов. Впрочем, что касается до счастья, истекавшего из образа нашей жизни, о! его невозможно измерить и оценить ни десятками, ни сотнями фунтов стерлингов. Детей у наших родителей было только двое: я, да моя сестра. Большую часть нашего воспитания матушка приняла на себя. При начале каждого утра мы помогали ей в хозяйственных хлопотах, после того принимались за ученье, по старинной методе, с которой наша матушка коротко ознакомилась, будучи девочкой: мы садились за «Историю Англии» Гольдсмита, за «Древнюю Историю» Роллена, за «Грамматику» Муррея, и, в заключение за шитье и вышиванье.
Нередко случалось, что матушка, тяжело вздыхая, выражала желание иметь возможность купить нам фортепьяно и выучить нас разыгрывать все те пьесы, которые она сама играла; но прихоти нашего доброго отца были разорительны, по крайней мере, для человека, обладавшего такими средствами, как он. Кроме безвредных, спокойных земледельческих наклонностей, в нем была наклонность к общежитию: никогда не отказываясь от обедов своих более богатых соседей, он находил особенное удовольствие отвечать на эти обеды – обедами, и задавать небольшие пирушки, которые повторялись бы довольно часто, если б благоразумие матери не сокращало их. А между тем, мы все-таки не имели возможности купить фортепьяно: покупка эта требовала вдруг такой наличной суммы денег, какою мы никогда не обладали. Можно смело сказать, что мы бы достигли зрелого возраста, не выучив ни одного языка, кроме своего отечественного, если б не помогли нам в этом отношении привычки отца обращаться в обществе, – эти привычки доставили нам случай выучиться по-французски самым неожиданном образом. Отец мой и мать отправились однажды обедать к генералу Ашбуртону, и там встретились с эмигрантом, джентльменом мосьё де-Шалабр, который бежал из отечества, подвергая жизнь свою страшным опасностям; – поэтому, он считался в нашем небольшом кругу и лесистой местности замечательнейшим львом, подававшим повод к многим званым обедам. Генерал Ашбуртон знал его во Франции совершенно в других обстоятельствах, так что мосьё де-Шалабр, прогостив в наших лесах около двух недель, был крайне изумлен спокойным и не лишенным достоинства вызовом Ашбуртона отрекомендовать его учителем французского языка, если только он в состоянии исполнить эту обязанность добросовестно.
На все доводы генерала, мосьё де-Шалабр отвечал, улыбаясь, в полном убеждении, что предлагаемая обязанность, если б он и вздумал принять ее, продолжилась бы весьма недолго, и что правое дело – должно восторжествовать. Это было перед роковым 21 января 1793 года. Продолжая улыбаться, он подкреплял свое убеждение бесчисленным множеством примеров из классиков, из биографий героев, патриархов и полководцев, которые, по прихоти Фортуны, принуждены были принимать обязанности далеко ниже своего звания. В заключение, он принял предложение генерала, и выразив признательность за его участие в положении эмигранта и за его великодушие, объявил, что уже нанял квартиру на несколько месяцев в небольшой ферме, находившейся в центре круга наших знакомых. Генерал был вполне джентльмен, чтоб высказать более того, что требовало приличие: он сказал, что всегда считал за особенную честь сделать что-нибудь полезное для содействия планам мосьё де-Шалабра; – а так как мой отец был первым лицом, с которым генерал встретился после этого разговора, то в тот же вечер нам объявлено было, что мы должны учиться по-французски, и я вполне уверена, что если б мой отец успел склонить матушку на свою сторону, то наш французский класс образовался бы из отца, матери и двух дочерей; до такой степени отец наш тронут был рассказом генерала о желаниях мосьё де-Шалабра, желаниях весьма ограниченных, сравнительно с высотою того положения в обществе, с которого он был низвергнут. Вследствие этого, мы были возведены в достоинство его первых учениц. Отец мой хотел, чтоб мы имели уроки через день, по-видимому, с тою целью, чтоб успехи были быстрее, но в сущности, чтоб плата за уроки составляла более значительную сумму. Мама спокойно вмешалась в это дело, и уговорила мужа ограничиться двумя уроками в неделю, чего, по её словам, было весьма достаточно и для успехов и для денежных средств. Счастливые уроки! Я помню их даже теперь, не смотря на пятидесятилетний промежуток времени. Наш дом находился на окраине леса, часть которого была очищена для наших полей. Земля была весьма неудобна для посева; но отец мой всегда засевал то или другое поле клевером, собственно потому, что мама, вовремя вечерних прогулок, любила благоухание цветистых полей, и потому еще, что чрез эти поля пролегали тропинки в окрестные леса.
За четверть мили от нашего дома, – по тропинке, проложенной по гладкому дерну и под длинными, низко опускавшимися ветвями буковых деревьев, – находилась старинная, нештукатуреная ферма, где квартировал мосьё де-Шалабр. Мы нередко навещали его; не для того, впрочем, чтоб брать уроки, – это, при его утонченных понятиях о вежливости, было бы для него оскорблением; – но так как мой отец и мать были ближайшими его соседями, то между нашим домом и старой фермой поддерживались постоянные сношения и переписка, которую мы, маленькие девочки, считали за счастье передавать нашему милому месьё де-Шалабру. Кроме того, когда уроки наши у мама оканчивались довольно рано, она обыкновенно говорила нам: – «Вы были умницами; за это вы можете прогуляться к дальнему краю клеверного поля и посмотреть, не идет ли мосьё де-Шалабр. Если он идет, то можете воротиться с ним вместе, только не забудьте уступать ему самую чистую часть тропинки: – ведь вы знаете, как он боится запачкать свои сапоги.»
Все это было прекрасно в теории; но, подобно многим теориям, трудность состояла в применении её к практике. Если мы отступали к стороне тропинки, где стояла широкая лужа, мосьё де-Шалабр кланялся и становился позади нас, в более мокрое место, предоставляя нам сухую и лучшую часть дороги; не смотря на то, когда мы приходили домой, его лакированные сапоги не имели на себе ни малейшего пятнышка, тогда как наши башмаки покрыты были грязью.
Другою маленькою церемонию, к которой мы постепенно привыкли, была его привычка снимать шляпу при нашем приближении, и идти рядом с нами, держа ее в руке. Разумеется, он носил парик тщательно завитый, напудренный и завязанный сзади в косичку. При этих встречах, нам всегда казалось, что он непременно простудится, что он оказывал нам слишком много чести, что он не знал, как мы были еще молоды; – и потому вам становилось очень совестно. Но не на долго. Однажды мы увидели, как он, недалеко от нашего дома, помогал крестьянке перебраться через забор, с той же самой изысканной вежливостью, которую постоянно оказывал нам. Сначала он перенес через забор корзинку с яйцами, и потом, приподняв полу кафтана, подбитую шелковой материей, разослал ее на ладонь своей руки, с тою целью, чтоб крестьянка могла положить на нее свои мальцы; вместо-того, она зажала его небольшую и белую руку в свою пухлую и здоровую, и налегла на него всею своей тяжестью. Он нес корзинку, пока дорога крестьянки лежала по одному направлению с его дорогой. С этого времени, мы уже не так застенчиво стали принимать его любезности: мы заметили, что он считал их за должную дань нашему полу, без различия возраста и состояния. Таким образом, как я уже сказала, мы величаво проходили по клеверному полю, и чрез калитку входили в наш сад, который был также благоуханен, как и самое поле, в его самую лучшую пору. Здесь, бывало, встречала нас мама. Здесь мы проводили большую часть нашей юношеской жизни. Наши французские уроки чаще читались в саду, нежели в комнате; на лужайке, почти у самого окна гостиной, находилась беседка, в которую мы без всякого затруднения переносили стол, стулья и все классные принадлежности, если только этому не препятствовала мама.
Мосьё де-Шалабр, во время уроков, надевал что-то в роде утреннего костюма, состоявшего из кафтана, камзола и панталон из грубого, серого сукна, которое он покупал в соседстве; его треугольная шляпа была тщательно приглажена; парик сидел на нем, как ни у кого, по крайней мере парик моего отца всегда бывал на боку. Единственною вещью, которой недоставало к довершению его наряда, был цветок. Я думаю, он не срывал с розовых кустов, окружавших ферму, в которой он жил, ни одного цветка, с тою целью, чтоб доставить нашей мама удовольствие нарезать ему из гвоздик и роз прекрасный букет, или «пози», как он любил называть его: он усвоил это миленькое провинциальное словцо, особенно полюбил его и произносил, делая ударение на первом слоге с томною мягкостью итальянского акцента. Часто Мэри и я старались подделаться под его произношение; мы всегда с таким наслаждением слушали его разговор.