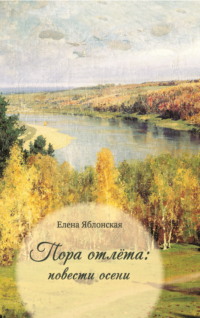Kitobni o'qish: «Пора отлёта: повести осени»
В оформлении обложки использована репродукция картины Василия Поленова «Золотая осень»

© Яблонская Е.Е., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025

Проза Елены Яблонской погружает читателя в светлый и удивительно добрый мир. Этот мир не вымышлен – более того, всё, что происходит в повестях Яблонской, абсолютно документально. Жизнь автора и её героев типична для поколения, взрослевшего на излёте советского государства, и весьма далека от идеала и благополучия. Елена Яблонская родилась в Ялте в 1959 г. Окончила Московский институт тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова и Высшие литературные курсы Литературного института им. А.М. Горького. Кандидат химических наук. Работала химиком-исследователем, редактором и переводчиком научно-технической литературы. Член Союза писателей России. Живёт в г. Черноголовка Московской области, наукограде, получившем в прозе Яблонской ироничное название Курослеповка, однако населённом творящими науку людьми. Хотя все повести автобиографичны, они никак не относятся к так называемой «женской прозе», описывающей на все лады взаимоотношения полов. Тем не менее, проза Елены Яблонской – о любви. О Любви к Родине, к великой русской литературе, к семье, к друзьям, сохраняющим мир науки, о жизни и судьбе самой науки и вошедшего в неё без оглядки народа. Так и с такой любовью после Вениамина Каверина об учёных, кажется, никто не писал. В повестях Елены Яблонской – без остатка – вся жизнь, такая родная, такая своя, которую ни на какие перестройки, реформы не отдашь, не променяешь, и если начнёшь сначала, то проживёшь так же. Жизнь по вере.
Полина Рожнова,
поэт, член Союза писателей России
Пора отлёта
Вы воскресили прошлого картины,
Былые дни, былые вечера.
Вдали всплывает сказкою старинной
Любви и дружбы первая пора.
Пронизанный до самой сердцевины
Тоской тех лет и жаждою добра,
Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный,
Опять припоминаю благодарно.
Гёте. Фауст (перевод Б. Пастернака)
1
Я ехала в маршрутке в Москву. Сидящий напротив парень был невероятно похож на одного моего друга, русского немца, уехавшего в Германию двенадцать лет назад. Навсегда.
В те годы в «Литературной газете» появилась статья о русских немцах: «Не хочу, чтобы он уезжал». Я тоже не хотела, чтобы «он» уезжал, но тогда, в середине девяностых, это почему-то казалось неизбежным. Почему? Гораздо сильнее меня тогда расстроила большая фотография в той же «Литературке»: старик в сванке на фоне оплетённых бутылей и связок лука. И подпись: «Грузия, не уходи!» Грузия ушла, но зачем было уезжать немцам, которые появились на Руси задолго до Петра и Екатерины, как и все наши на первых порах «немые» фряны-итальянцы, французы, англичане, шведы? А для меня первой русской немкой остаётся Екатерина Великая, до конца дней своих говорившая с акцентом и всё равно – русская государыня-матушка!
Через пятьдесят лет после Екатерины один потомок шотландцев напишет: «Его фамилия Вернер, но он русский. В этом нет ничего удивительного…» Конечно, Михаил Юрьевич. А ничего, если я пропущу лесковских немцев с Васильевского острова? Дело в том, что Лесков писал не только о немцах, русских, татарах, англичанах, цыганах… Он также написал лично обо мне. Да-да! В «Соборянах» протоиерей Туберозов возмущается поведением ссыльного полячишки, который глумится над православным обрядом и вообще всячески мутит воду в застойном уездном болотце. Громы и молнии мечет отец Савелий на головы зловредных ляхов и вдруг добродушно спохватывается: «А впрочем, чего мы гневаемся-то? Ведь уже внуки и даже дети этих поляков будут точно такими, как мы, русскими…»
А я даже не внучка, а прапрапраправнучка. Понимаете? Но я о немцах.
Моего любимого немца звали Эдвин. Эдвин Теодорович Байер. Имя Эдик ему категорически не шло. Я звала его исключительно Эдькой, официальные лица вроде завлаба Льва Яковлевича величали Эдвином, а ребята – попросту Фёдорычем. Да и на дверях кабинета Эдькиного отца, в молодости кемеровского шахтёра, а в восьмидесятые партийно-профсоюзного босса, значилось «Байер Ф. О.». Фёдор Оттович.
Предки Эдьки и с папиной, и с маминой стороны приехали в Россию при матушке Екатерине. Причём Фёдор Оттович приходился мне земляком: я ведь крымчанка, а дед Отто Байер до революции владел рыбокоптильней в Керчи. Но ещё в большей степени землячкой считал Эдька мою закадычнейшую подругу Тамарку Фераниди, чей папа, Константин Герасимович, завкафедрой Воронежского строительного института, был потомком феодосийских греков. А уж бабушка Олимпиада Константиновна, которую все, от мала до велика, звали тётей Патей, столь темпераментно беседовала с соседками на улочках тихого Задонска, что, приезжая туда с Тамаркой, я чувствовала себя в ялтинском дворе моего детства. Предки Эдькиной мамы – петербургские немцы – были потомственными лекарями, и прадед даже лечил кого-то из великих князей, за что и был сослан в Архангельск в соответствующие времена. Эдькина архангельская бабушка, Мария Владимировна Пиккель, профессор-педиатр, выйдя на пенсию, переводила Рильке. С родного языка на родной.
Ich Hebe meines Wesens Dunkelstunden,
in welchen meine Sinne sich vertiefen…
Люблю свои раздумья вечерами,
в них чувства глубины моей духовной;
как в письмах, спящих в уголках укромных,
в них жизнь таится и встаёт пред нами
легендою иль памятными снами…
К сожалению, ни мама Эдьки, ни тем более Фёдор Оттович почти не говорили по-немецки. А Эдька знал, кажется, только «натюрлих», да и с английским была беда, как, впрочем, и у всех сотрудников нашей маленькой лаборатории. По крайней мере, кандидатский минимум все наши ребята пересдавали многократно с какими-то невероятными приключениями. Кроме меня, естественно, – спасибо английской школе. Это обстоятельство, как ни странно, и определило мою дальнейшую, после-перестроечную судьбу.
Шеф наш, Лев Яковлевич, именуемый за глаза просто Яковличем или Профессором, говорил по-немецки блестяще. А по-английски читал, разумеется, химическую литературу и очень сносно, по-моему, общался с коллегами на международных конференциях, но вот с написанием собственных статей испытывал затруднения. Непрерывно лезть за консультациями к Светлане Ивановне, референту директора Института академика Шумова, было неловко по причинам деликатным. Светлана Иванна, пикантная дамочка бальзаковского возраста, великолепно владела английским – как-никак иняз плюс лет пятнадцать работы в нашем физико-химическом институте, но просто и быстро помочь человеку ей почему-то никогда не удавалось. Всё закатывание глазок, хохот, кокетство, «ужимки да прыжки». «Это, конечно, прекрасно, но отнимает слишком много времени», – серьёзно говорил Аркадий, сосед Эдьки по общежитию и аспирант дружественной лаборатории лазерной спектроскопии.
А я как-то «без отрыва от производства», кося одним глазом на раствор, медленно капающий из колонки с силикагелем, переводила разнообразные подписи к слайдам, тезисы для конференций, доклады, а потом и целые статьи. Аркадию и прочим «пришельцам» помогала «за шоколадку», а внутри лаборатории эта моя деятельность по распоряжению Профессора стала поддерживаться на официальном уровне.
В голодном девяносто втором, когда мужественный наш Академик со смехом рассказывал на семинаре, как он ходил к Гайдару просить денег на науку и получил «полный отлуп», «Журнал новых химических проблем» потерял нашу статью. Я ездила в редакцию разбираться. «У нас тяжба с „Химпроблемами“», – жаловался Лев Яковлич Академику. Статью вскоре нашли и благополучно опубликовали, а я осталась в редакции внештатным переводчиком. В девяносто пятом, когда почти все разъехались, а Профессор и Эдька сидели на чемоданах, я ушла в штат редакции. Навсегда. Присутственные дни – со вторника по четверг. Очень боялась, что Академик не отпустит. Но старик сказал грустно: «Я вижу, вам там интереснее». Вот почему я еду в настоящий момент в маршрутке «Академгородок – Москва», а сидящий напротив парень необыкновенно похож на нашего Эдьку.
2
Эдвина Байера распределили в институт после химфака новосибирского университета. «Он химик, он ботаник!» – провозгласил Фарид Ахмеджанов, переигравший в своё время в студенческом театре все мужские и старушечьи роли из «Горя от ума». Появление химика в нашей лаборатории фотохимического синтеза и катализа было очень кстати. Вам может показаться странным, но беда была не только с английским, но и с химиками. Конечно, Лев Яковлич – великий синтетик, но он то в дирекции, то на учёном совете. Володька Ким – талантливый химик и отличный товарищ, но он вечно на стажировке в Голландии, куда его пристроил заботливый шеф. Остальные – физики: замзавлаб Ашот Саркисович, Фарид да Витька Дедович. Пока не появилась прикомандированная из Баку Гюлыпен, я была единственной женщиной, единственной аспиранткой и единственным постоянно действующим синтетиком в лаборатории. Правда, на первых порах очень помогал Профессор. С Гюлей стало уютнее, но проблем не убавилось. Понимаете, с тем, чем могли помочь наши физики, мы худо-бедно и сами справлялись, а вот установку запаять или капилляр для вакуумной перегонки оттянуть, да и просто посоветовать что, если синтез не идёт… А прикатить газовый баллон или дьюар с жидким азотом со двора притащить совсем даже не тяжело.
За этим занятием нас с Гюлей как-то застукал институтский парторг Анатолий Степанович. Все наши мужчины отсутствовали, клянчить азот в других лабораториях не хотелось, мы вдвоём и волокли пятнадцатилитровый дьюар. Потихонечку… Гюля была уже на сносях со вторым мальчиком, а я на пятом месяце.
– Сдурели, бабы?! – страшным голосом возопил Степаныч.
Мы бросили дьюар и с ужасом смотрели, как Толя тигриными прыжками несётся к нам из конца коридора.
Потом были утомительные разборки на тему техники безопасности, в результате которых Гюлю выгнали-таки в декрет, а у меня с тех пор каждый рабочий день начинался с того, что Ашот Саркисович придирчиво оглядывал мой живот и что-то записывал в свой лабораторный журнал. Ситуация осложнялась тем, что за эту самую технику безопасности у нас отвечал Ашот, будучи мужем Гюльшен. Их роман, кстати, в прямом смысле слова возгорелся из пламени, разожжённого Эдькой.
Ашоту было тридцать восемь, и мы думали, что он уже никогда не женится, а так и будет до пенсии говорить Фариду: «Какая девюшька, слюшяй! Ты помоложе…» Впрочем, по поводу Гюли даже этого сказано не было. Ашот, казалось, её просто не заметил. Он вообще молчун и давно, ещё до моего появления в лаборатории, спихнул обязанности по инструктажу новых сотрудников на обаятельного и общительного Фарида Равильевича.
Меня, помню, привёл в лабораторию сам Академик. Его инструкция была краткой.
– Пусть здесь всё сгорит, – сказал Александр Николаевич, обводя широким жестом бесценные приборы, – лишь бы вы уцелели, понимаете?
После этого Академик удалился, а Фаридик весело рассказывал, что наша работа не слишком полезна для здоровья, но и вред сильно преувеличен.
– Бабочек ловить, конечно, полезнее… – И посмотрел вопросительно.
А я на бабочек и не рассчитывала. Вот Тамарка, учась на биофаке воронежского университета по специальности «анатомия и физиология человека и животных», представляла свою будущую трудовую деятельность не иначе как в виде командировок в Африку, чтобы «смотреть там на жирафов». А пришлось колоть мышей нашими противоопухолевыми препаратами и наблюдать, как скоро они передохнут. Да и вонь у биологов стоит такая, что даже нам, химикам, становилось не по себе.
Гюльшен тоже проходила инструктаж у Фаридиуса, и он вроде даже вздумал слегка за ней поухаживать, но по рассеянности и легкомыслию тут же на кого-то переключился. На праздновании третьей годовщины своей свадьбы Гюля, смеясь, напомнила ему об этом. Фарид удивлённо вскинул брови, но тут же «въехал» и стал с жаром уверять, что «такое не забывается» и он просто сразу распознал в Гюле Ашотово счастье.
В тот день Эдька что-то такое паял на газовой горелке, а Гюльшен с кюветой в руках бродила неподалёку между вакуумной установкой и спектрофотометром. Мы с Ашотом, почуяв запах гари, одновременно выглянули из-за перегородки и увидели, как Эдька с невозмутимо-каменным лицом изо всех сил лупит Гюлю по заду асбестовым одеялом – это такая пропитанная асбестом тряпка, в мирное время используемая для завёртывания колб при перегонке. Ничего не понимающая Гюльшен в ужасе возвела на меня и Ашота огромные вопрошающие глаза.
– У вас хвост горит, – любезно объяснила я и захихикала.
Пожар был мгновенно потушен, выгорела только маленькая дырка на халате. Ашот проявил необыкновенную активность: слетал к хозлаборантке и приволок новый халат, что было делом нелёгким – нам выдавали их раз в полгода.
Пока Гюля снимала прожжённую спецодежду, Ашот протягивал дрожащую руку к пострадавшему месту, тут же, закрывая глаза, отдёргивал и умоляюще взывал ко мне:
– Наташшя, Наташшя! Посмотрите, оно сильно сгорело? Мне же неудобно!
Потом он потребовал, чтобы Гюльшен пошла домой «отдохнуть».
Она с возмущением отказалась:
– У меня же эксперимент!
Тем не менее после окончания эксперимента Ашот Саркисович лично отправился провожать погоревшую, забегая вперёд и открывая перед ней все двери. Ну а потом Гюля как-то очень легко, почти «без отрыва от производства» нарожала одного за другим, как говорили, целую футбольную команду сливовоглазых мальчишек. «Пять или шесть сыновей, Ашот?» – любил пошутить Лев Яковлич. Парней было трое.
На Гюлиной свадьбе свидетелем, тамадой, массовиком-затейником и бог знает кем ещё был, конечно, ближайший друг Ашота Фарид, мастер разного рода розыгрышей и вообще артистическая натура. Особенно много веселья он учинял в общежитии на первое апреля. Когда-то, ещё до Ашотовой женитьбы, Фаридиус с помощью сложной системы верёвочек установил ведро с водой над дверью в комнату своих физтеховских однокурсников из Института физики полупроводников. Однако вместо ожидаемой жертвы явился и был облит Ашот. Фарид потом долго в разных компаниях изображал солидного Ашота Саркисовича, с отвращением отряхивающего с лацканов пиджака не очень чистую воду: «Надел пиджяк, пошёл к друззям…» И хотя Фаридик чистосердечно каялся, Ашот ему, похоже, так и не поверил. Он думал, что Фарид благородно взял на себя чужую вину. В нашем институте товарищ Аветисян А. С. был важной персоной: по партийной линии экзаменовал сотрудников, уезжающих в заграничные командировки, и многие могли его бояться. Правда, невозможно поверить, чтобы он кого-нибудь «завернул», тем более в отместку. Какое бы девственное незнание коммунистического движения той или иной страны ни проявлял отъезжающий, Ашот, укоризненно вздыхая, подписывал бумагу и непременно вручал аккуратную шпаргалочку: «Прочитайте, прошю вас, в райкоме могут спросить…»
Нам с Эдькой и Витькой Дедовичем тоже довелось участвовать в театрализованном действе, организованном неутомимым Ахмеджанчиком. Отмечалось присвоение Профессору Государственной премии. Повод был скорее печальным, потому что премию дали, когда двух сотрудниц из трёх человек авторского коллектива уже не было в живых. Рак. Всё-таки наша работа, увы, не ловля бабочек… Лев Яковлевич был настроен очень минорно, и, чтобы празднование не вылилось в полноценные поминки, решено было внести бодрящую струю. Написали сценарий. Фарид изображал самого Профессора, а мы трое – сами себя. Представление устроили до прихода народа из других институтских подразделений, потому что спектакль призван был отобразить внутреннюю жизнь исключительно нашей лаборатории, недоступную пониманию «пришельцев».
Собственно, придумывать ничего не надо было. Каждый божий день начинался с того, что Профессор являлся на работу ровно в восемь тридцать и, расшвыривая стулья, метался по комнате: никого из нас ещё не было. Наконец приходит, например, Дедович.
– Чем обязан? – с горьким сарказмом вопрошает шеф. – Виктор, вы хоть приблизительно представляете себе, который час?
Дед что-то такое мямлит. Заходит Эдька, лицо каменное, «нордическое».
– А вы, Эдвин, отдаёте ли вы себе отчёт…
Наконец мой выход.
– А ведь я менее всего ожидал такого отношения от вас, Наталья! Драгоценное аспирантское время…
Актёры давились от смеха. Фарид, носясь по комнате, по-моему, очень похоже изображал шефа, взлохмачивая жёсткие татарские волосы, а сам виновник торжества вежливо улыбался и себя решительно не узнавал. По крайней мере, медового цвета глазёнки трёхлетнего Яшки, сидевшего на коленях дедушки, выражали гораздо больше понимания, а когда Фарид отшвыривал очередной стул, Яшка басовито хохотал. Ну а больше оценить наше творчество было некому. Кимыч, как всегда, в Голландии, от Ашота слова не добьёшься, он только усмехался, откупоривая бутылки, а Гюля с супругой шефа Эсфирь Самойловной хлопотала на кухне…
3
Я вспоминала всё это давнее, молодое, весёлое, и мне очень хотелось, чтобы сидящий напротив парень вдруг оказался нашим Эдькой. Двенадцать лет назад, когда я видела моего друга в последний раз, ему было тридцать шесть, но выглядел он примерно так же, как этот парень. А теперь… Но кто знает, может, там, в Германии, мужики хорошо сохраняются? Это ведь не Америка, откуда все наши люди, задуманные и бывшие на родине очень худыми, приезжают подёрнутые противным жирком поверх костей. Парень сидел, уткнувшись в какие-то бумаги, и на меня ни разу не посмотрел. Может, спросить его: «Молодой человек, вас не Эдвином зовут?» Глупо. И я продолжала вспоминать.
Многие, в том числе Лев Яковлевич, полагали, что мы с Эдькой созданы друг для друга и поженимся. А нам это – честно! – и в голову не приходило. Уж очень хорошо было дружить. Да и «пресный он какой-то, без изюминки», как осторожно, боясь меня обидеть, сказала Тамарка. Я не обиделась, понимая, что Тамара невольно сравнивает Эдьку со своим папой, черноусым хохотуном и остроумцем Константином Герасимовичем. Вот уж кто одна сплошная изюмина! Да и мой Андрей как-то рассказал в общежитии в перерыве между танцами про низкотемпературную сверхпроводимость так, что все рты по-раскрывали. Соловьём пел… Нет, Эдька не был пресным, он был нормой, воплощённым здравым смыслом и только ко мне относился как-то уж чересчур восторженно. Я была для него идеалом русской женщины, той, что «в горящую избу и коня на скаку» и одновременно с непостижимо возвышенной славянской душой. Я и вправду была тогда… бесстрашная, что ли… Могла сказать в лицо «Какая низость!» какому-нибудь Игорю Валерьевичу, осмелившемуся при мне учить своего дипломника подставлять не получившиеся в эксперименте точки на график («Они же всё равно должны там быть!»). А как-то в автобусе отхлестала по физиономии пьяного, ругавшегося матом. Пьяный всю дорогу до Москвы под хохот пассажиров кланялся, прижимая руку к сердцу, и говорил: «Простите, барышня!» Наверное, именно поэтому я и была «любимой аспиранткой Профессора и Академика», как звали меня все в институте. Не за научные же успехи они меня любили, тем более что успехи-то вовсе и не мои, а Льва Яковлевича.
Да, защитилась я быстро и успешно, как, впрочем, и Эдька, да и все остальные ученики нашего замечательного шефа. Мы с Эдькой одновременно были отпущены в «творческий отпуск» писать диссертации. Эдьке, правда, писательство давалось с трудом, и он каждый день бегал в институт подсунуть Профессору на проверку вымученные страницы своего литобзора. А я, быстренько, за месяц, всё накатав (компьютеров в восемьдесят шестом году у нас ещё не было!), с удивлением читала взятых в библиотеке «Братьев Карамазовых». До этого, познакомившись в школе с «Преступлением и наказанием», я не только считала невозможным читать Достоевского, но даже боялась держать его книги дома. К сожалению, на десятой книге «Карамазовых» Профессор «отозвал» меня из отпуска.
– Эдвин, скажите Наталье, пусть выходит на работу, – сказал он сурово. – Я знаю, она давно всё написала, – и добавил зловеще: – Она не пишет. Я знаю, что она делает там, в общежитии…
– А что? – испугался Эдька.
– Спит она там, вот что!
Это была сущая правда. Я отсыпалась, кажется, за всю жизнь, с умилением вспоминая слова однокурсницы «Сон – это святое!». Однако в аспирантском общежитии с нашим студенческим девизом никто не считался. Ночи напролёт болтали, хохотали, пели, читали стихи и разучивали акробатический рок-н-ролл прямо в холле нашего «взбесившегося» седьмого этажа. После бурно проведённой ночи я дрыхла часов до двух и выползала на апрельское солнышко, когда сотрудники институтов шли домой обедать.
Дрожит и переливается хрустальная синь, отражается во всех бесчисленных лужицах, ручейках, озерках талой воды. И вездесущее солнце, которого, оказывается, так много, смеётся из всех посверкивающих, подмигивающих водных зеркал. Я подставляю лицо под солнце и синь и плыву, плыву, качаюсь в волнах переливчатого света… Вот идёт, аккуратно переступая через ручьи остроносыми сапожками, дама в красивой шали, элегантно повязанной поверх демисезонного пальто. Это Тамаркина шефиня Цветана Георгиевна. Она явно благоволит ко мне.
– Наташенька, здравствуйте! Вы печальны? Я принимаю в вас участие… Проблемы? Рассказывайте!
Что ж, проблемы есть. Например, давно, уже с полгода, болит зуб. То есть не болит, а как-то ноет и дёргает. Наверное, режется зуб мудрости. К врачу? Нет, это невозможно, защита же на носу!
– Конечно, защищаться без зуба мудрости было бы опрометчиво, – серьёзно говорит Цветана Георгиевна, и только мудрые сорокалетние глаза смеются.
– Нет, правда, Цветана Георгиевна, и с работой вот тоже… Помните, я докладывала на семинаре про эти триады с хинонами? Так вот, кинетика по ним не воспроизводится!
– Нам бы вашу воспроизводимость… – вздыхает Цветана Георгиевна.
Ну, у вас живые системы, а мы должны… Нет, в диссертацию они, конечно, не вошли, материала и без них хватает, но Лев Яковлевич считает, что после защиты к ним надо вернуться. Разумно? Да, но как противно! Почему? Да потому, что после защиты всё будет по-другому! Что, например? Ну как же! Я буду не аспиранткой, а постоянным сотрудником, и профкомовцам придётся дать мне путёвку в Среднюю Азию. На поезде! Бухара, Самарканд! Представляете? Или вот ещё на Кавказе я никогда не была. Тоже есть путёвки. Гюльшен с Ашотом каждый отпуск объезжают своих родственников в Азербайджане и Армении, и Гюля особенно восхищается каким-то Ленинаканом, где живёт почти столетняя Ашотова бабушка, говорит, это «город армянской интеллигенции». Почему сейчас не дают? Так я же аспирантка, по их понятиям не человек.
– Но вы же член профсоюза! – возмущается Цветана Георгиевна. – Я поговорю с ними. Куда вы собрались? В Самарканд?
Личная жизнь? Мы с Андреем поженились в октябре, через полгода после этого разговора с Цветаной Георгиевной, но прозрачным и звонким апрелем всё почему-то казалось очень сложным. Андрей, у которого на работе вечно что-то не ладилось, ревновал меня к диссертации, Профессору и Академику: «Ещё бы не защититься с такими шефьями!» А я ревновала его к Нонке, пеговолосой очкастой девице, носившейся по коридорам института на стоптанных, покосившихся каблуках.
– Да, грустно, – вздыхает Цветана Георгиевна. – А между прочим, Наташенька, сколько вам лет?
– Двадцать шесть! – радостно выпаливаю я, и Цветана Георгиевна по-девчоночьи смеётся, запрокинув голову, и я тоже смеюсь, глядя на неё, и солнце смеётся…
Вечером зеркала подёргиваются зеленоватым ледком, в них отражается спокойная луна, спелым дынным цветом своим обещая скорое лето, а мне встречаются совсем другие персонажи. Вот прыгает по лужам – «Наталья, привет!» – вертлявая Светлана Иванна. А вот задумчиво шагает сам Академик. Он предпочитает работать по вечерам. Светлана Иванна что-то такое печатает на двух машинках, русской и английской, кажется они назывались «Ятрань». Временами пустые и гулкие коридоры института оглашаются её резким хохотом. А Академик обзванивает всех завлабов по очереди – обсудить механизм реакции. Начинает он всегда с нашего Льва Яковлевича, зная, что тот укладывается спать одновременно с внуком Яшкой ровно в полдесятого, сразу после просмотра программы «Время». Разговор с Яковличем обыкновенно заканчивается так: «Да, поздно, я тоже уже плохо соображаю. Спокойной ночи!»
– Здравствуйте, Александр Николаевич! А я, кажется, диссертацию написала.
– Почему «кажется»? – нарочно строго говорит Академик и смотрит ласково.
Да, все получалось, всё катилось само собой в этом самом счастливом для меня восемьдесят шестом году. Это был год Чернобыля и нашего бесшабашного счастья, когда так беззаботно высились лиловые пирамиды иван-чая на песчаной горе за густо-коричневой от торфа речкой Чернавкой и так вкусно и горько пахло землёй и ботвой на картофельном поле, теперь густо застроенном диковатого вида коттеджами «новых русских».
4
В то лето мы под предводительством Аркадия ходили на байдарках в Карелию по реке Шуе. Шуя время от времени выливалась в огромные озёра, нанизанные на неё, как бусины разных форм и размеров.
– Надо же! Как море! – удивлялись мы.
А услышавший это мальчишка с берега взволнованно кричал:
– Это не море! Это речка Шуя! Шуя!
– Правда? А мы и не знали! – отвечал Эдька.
Ему, как самому сильному, было доверено везти слабейшее звено – Нонку. Эдька при ладной, но отнюдь не шварценеггеровской фигуре был и вправду очень сильным. «Вы знаете, Наташа, у нашего Эдвина сила в руках… необыкновенная!» – с нескрываемым восхищением говорил мне Лев Яковлевич, после того как Эдька нечаянно раздавил руками стеклянный водоструйный насос.
Кстати, грубовато-привлекательными чертами лица Эдька как раз на Шварценеггера и походил, но это я только сейчас поняла, разглядывая парня в маршрутке. А тогда, в Карелии, в очередной раз проявился Эдькин характер – «стойкий, нордический».
Мы с Андреем и шедшие первыми Тамарка с Аркадием одновременно услышали непрерывный, на одной ноте крик:
– А-а-а-а!
Кричала Нонка, умудряясь каким-то непостижимым образом стоять в байдарке с веслом наперевес. Закатные лучи жутковато отражались в очках, длинные, по пояс, волосища развевались по ветру! Эдька невозмутимо грёб – лицо каменное. Так и плыли довольно долго. Оказывается, Нонка требовала пристать к берегу по каким-то тонким психологическим мотивам – к причинам физиологического свойства Эдька бы снизошёл.
После длительной разборки у костра и мучительных раздумий Аркадия (Академик назвал бы такое поведение руководителя «проявлением преступной нерешительности») Нонку пересадили к Андрею, а я поехала с Эдькой. Нонка усердно гребла, внимательно слушала Андрея, который с жаром что-то рассказывал, иногда даже бросая весло, наверное про низкотемпературную сверхпроводимость. А мы с Эдькой легко и привычно молчали.
Ветер стих. Мы плыли по неподвижной жемчужно-серой озёрной глади.
Я наслаждалась греблей:
– Как здорово, правда? И совсем не трудно!
Эдька почему-то не восхищался и мрачнел.
Я наконец догадалась:
– Ты, наверно, устал? Хочешь, я сама погребу? Мне так нравится…
Эдька послушно положил весло. Я гребла с упоением, но через какое-то время заметила, что раздвоенная сосна на берегу почему-то всё не отстаёт от нас. Потом нас обогнали удивлённо взглянувшие Андрей с Нонкой. А Эдька повернулся и с интересом меня рассматривал. Мой вклад в греблю был нулевым!
На другой день, когда мы полёживали после купания на нагретых рассеянным северным солнцем гранитных плитах, Эдька надо мной потешался:
– Смотри, Андрей, у Наташки нет трицепса! Вообще! Это же феномен! Чудо природы!
– Зато у неё есть зуб мудрости! – огрызался Андрей.
Веселья было много. Нонка познакомилась в лесу с местным дедом.
– Мы тут все химики, – рассказывал дед, шамкая беззубым ртом.
– Мы тоже химики, – с достоинством поддерживала разговор Нонка.
– Такие молодые? – удивлялся дед.
Оказалось, химиками назывались отбывающие наказание на поселении самогонщики, тунеядцы и прочие деятели такого сорта.
Мальчишки ловили рыбу, а мы ходили по ягоды, высыпавшими сказочной рубиновой мозаикой по ярко-зелёным пушистым мхам. Как-то путь в лагерь мне преградило большое стадо коров без пастуха, переходившее ручей по маленькой насыпи. Коровы были какие-то странные, поджарые и без вымени, – мясная порода, что ли. Этих животных я опасалась. А каждая, став на насыпь, вопрошающе на меня смотрела. «Проходи!» – говорила я. Корова послушно трогалась, но на её место заступала другая. Казалось, им не будет конца. «Проходи!» – я поставила на мох котелки с земляникой. От этой повинности меня освободил Эдька, появившись на опушке. Он засмеялся и шлёпнул ближайшую к нему корову по чёрно-белому костистому заду. Все коровы будто только и ждали этого – не обращая на меня внимания, радостно бросились одна за другой через ручей.
А вечерами сидели у оранжевого огня, и я подбирала на гитаре (Андрей не хотел её брать, но вот – пригодилась!) песню, услышанную в вагоне от студентов в стройотрядовской форме:
Размытый путь и вдоль – кривые тополя.
Я слушал неба звук – была пора отлёта.
И вот я встал и тихо вышел за ворота,
Туда, где простирались жёлтые поля…
– М-м-м… Та-та-та… Эдька, не помнишь, как там дальше?.. Та-та-та-та… А издали тоскливо пел… гудок совсем чужой земли, гудок разлуки…
– Но, глядя вдаль и в эти вслушиваясь звуки, я ни о чём ещё тогда не сожалел… – подсказывал Эдька, а после песни сказал тихо: – Я, ребята, чего-то нашего Кимыча вспомнил…
…И вдруг такой тоской повеяло с полей!
Тоской любви, тоской былых свиданий кратких.
Я уплывал всё дальше, дальше – без оглядки
На мглистый берег глупой юности своей…
К Андрею Эдька относился с необыкновенным уважением: «Андрей тоже так думает?», «А Андрей тебя отпустит?» – в этот самый карельский поход, куда Андрея поначалу не хотели брать как никогда в глаза не видевшего байдарки. Взяли по настоянию Эдьки.
А до появления Андрея Эдька даже пытался выдать меня замуж.
Подходит как-то с таинственным видом:
– Наташка, мы с Аркадием решили познакомить тебя с Кандидатом.
– Это ещё кто?
Оказывается, действительно кандидат наук, младший научный сотрудник из лаборатории Аркадия.
– Ты не смотри, что он… халявый, – с запинкой говорит Эдька. – Он умный парень…
– Что значит «халявый»?
– Ну, пофигист…
Я выждала недели две.
– Ну и где ваш Кандидат?
– Ты знаешь, Наташка, – Эдька замялся, – мы с Аркадием решили, что он тебя недостоин. Тебе надо москвича!
Да, Москва была моей печалью. Сибиряк Эдька не понимал этого, но очень сочувствовал. А я тосковала по студенческим временам, по моему институту на Малой Пироговской в старом здании Высших женских курсов, по скверику Мандельштама (не поэта, а, кажется, физика), в который мы бегали между лекциями смотреть на уток и есть пончики, по общежитиям на «Студенческой», заметаемым в летнюю сессию тополиным пухом… Да и за каждой пуговицей или, скажем, молнией для юбки надо было в те годы таскаться в Москву – в Академгородке на двадцать тысяч жителей был один-единственный универмаг.