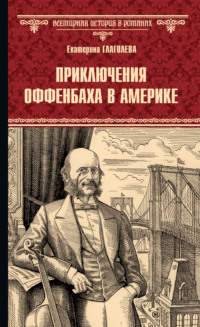Kitobni o'qish: «Приключения Оффенбаха в Америке»
© Глаголева Е., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
* * *

Екатерина Глаголева
Об авторе
Дипломированный переводчик Екатерина Владимировна Глаголева (р. в 1971 г.) начала свой литературный путь в 1993 году с перевода французских романов Александра Дюма, Эрве Базена, Франсуа Нурисье, Фелисьена Марсо, Кристины де Ривуар, а также других авторов, претендующих на звание современных классиков. На сегодняшний день на ее счету более 50 переводных книг (в том числе под фамилией Колодочкина) – художественных произведений, исторических исследований. Переводческую деятельность она сочетала с преподаванием в вузе и работой над кандидатской диссертацией, которую защитила в 1997 году. Перейдя в 2000 году на работу в агентство ИТАР-ТАСС, дважды выезжала в длительные командировки во Францию, используя их, чтобы собрать материал для своих будущих произведений. В тот же период публиковалась в журналах «Эхо планеты», «History Illustrated», «Дилетант», «Весь мир» и других. В 2007 году в издательстве «Вече» вышел первый исторический роман автора – «Дьявол против кардинала» об эпохе Людовика XIII и кардинала Ришелье. За ним последовали публикации в издательстве «Молодая гвардия»: пять книг в серии «Повседневная жизнь» и семь биографий в серии «ЖЗЛ». Книга «Андрей Каприн» в серии «ЖЗЛ: биография продолжается» (изданная под фамилией Колодочкина) получила в 2020 году диплом премии «Александр Невский».
Книги автора, вышедшие в издательстве «ВЕЧЕ»:
Дьявол против кардинала. Серия «Исторические приключения». 2007 г., переиздан в 2020 г.
Путь Долгоруковых. Серия «Россия державная». 2019 г.
Польский бунт. Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Лишенные родины. Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Любовь Лафайета. Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Пока смерть не разлучит… Серия «Всемирная история в романах». 2021 г.
Битвы орлов. Серия «Всемирная история в романах». 2022 г.
Огонь под пеплом. Серия «Всемирная история в романах». 2022 г.
Нашествие 1812. Серия «Всемирная история в романах». 2022 г.
Пришедшие с мечом. Серия «Всемирная история в романах». 2023 г.
Маятник судьбы. Серия «Всемирная история в романах». 2023 г.
Последний полет орла. Серия «Всемирная история в романах». 2023 г.
Пролог
Случалось ли вам давать слово в надежде, что сдержать его не придется? Наверняка случалось. Ведь вы же обещали часто писать своим родителям, лишь бы они отпустили вас в столицу из вашего сонного, провинциального городка? А приветы, которые вы непременно передадите родным и знакомым? А старый дядюшка, способный дать хороший совет, которого вы обязательно навестите? Или, наоборот, игорные дома и развратные женщины, которых вы ни за что не станете посещать, употребляя всё свое время на работу и учебу? С годами так к этому привыкаешь, что, произнося: «Да-да, разумеется» или: «Нет-нет, ни в коем случае», уже не думаешь, что тебя это к чему-нибудь обязывает. Однако в то утро ко мне ворвался человек, у которого слово не расходится с делом; один из тех людей, которыми принято восхищаться, поскольку они двигают прогресс, но при этом держаться от них подальше, чтобы они не заставили вас двигать прогресс вместе с ними. Так вот, он прорвался прямо в сад, где я беседовал с несравненной Гортензией Шнайдер – Прекрасной Еленой и великой герцогиней Герольштейнской (хотя я просил слугу не пускать ко мне никого, не состоящего со мной в кровном родстве), извинился за вторжение и сказал себе в оправдание, что не злоупотребит моим временем, поскольку у него ко мне лишь один вопрос, на который можно ответить «да» или «нет», и он уйдет сразу, как только получит один из этих ответов. Всегда приятно, когда у тебя есть выбор, не так ли? Я согласился его выслушать, и он спросил:
– Господин Оффенбах, желаете ли вы поехать в Америку?
Я рассмеялся. А почему не полететь на Луну? Забыв, что он ждет от меня одно короткое слово, я ответил, что в настоящий момент не выйду из этого сада даже за все сокровища мира. Он возразил, что речь не о текущем моменте, а о будущей весне, когда в Филадельфии откроется Всемирная выставка. И повторил:
– Желаете ли вы поехать в Америку?
На самом деле между «да» и «нет» существует множество полустанков, на которых мы стараемся сойти, чтобы не ехать до конечной. Я сказал, что не то чтобы желаю поехать в Америку (когда тебе глубоко за пятьдесят, ты завален работой и замучен подагрой, груз забот и обязанностей превращает тебя из легкой на подъем перелетной птицы в пугливую курицу), – так вот, я не то чтобы желаю, но эта мысль не внушает мне отвращения, особенно если ему известны весомые и звонкие аргументы в пользу этой поездки. Он удовлетворился моим ответом и пообещал, что аргументы вскоре будут представлены на мое рассмотрение.
Господин удалился, а я впал в задумчивость и уже не мог поддерживать беседу: когда голова пуста, говорить легко, но когда в ней роятся сотни мыслей, попробуй-ка сосредоточиться!
За обедом я рассказал об утреннем визите жене и детям, представив всё в юмористическом ключе, однако мой рассказ был встречен единодушным воплем: «С ума ты сошел!» Дочери даже расплакались – нет ничего лучше женских слёз, чтобы показать мужчине, какой он глупец.
Моя жена тоже не была в восторге. Америка! Что за дикий каприз для европейца, которому вполне довольно его континента? Я утону во время переезда через Атлантику – с пароходом или без, меня сдует с палубы ветром или смоет волной, а если я всё же доберусь до суши, на меня нападут разбойники и оставят без гроша, а если я всё же сохраню пару монет за подкладкой на обратный путь, то заболею желтой лихорадкой. Я попытался её успокоить: впереди еще почти год, чего только ни случится за это время. В Америке может снова начаться война: это весьма вероятно, в газетах так и пишут. Филадельфию разрушит землетрясением. Туда придет моровое поветрие. Наконец, выставку просто отменят, такое бывает сплошь и рядом. Только эти соображения и побудили меня после нескольких бессонных ночей согласиться на контракт, подготовленный мистером Бакеро, который представлял в Париже американского антрепренера Мориса Грау.
Мне предстояло дать тридцать концертов в Нью-Йорке и Филадельфии, дирижируя оркестром в сто человек и получая по тысяче долларов за вечер, с оплатой всех расходов.
Тысяча долларов… Это же пять тысяч франков! Вся труппа театра «Гэте» вместе с оркестром обходилась мне дешевле! Правда, Берлиозу в России платили двенадцать тысяч франков за концерт… Вот куда бы поехать! Но в России страшный холод, сами русские его не выдерживают и приезжают на зиму в Париж, а я и так всё время мерзну.
Теперь у нас оставалась только одна надежда. По условиям контракта, в банк моего друга Бишофсхайма должны были перевести крупную сумму на мое имя – задаток, и я убеждал домашних, что этого ни за что не случится, а значит, и ехать мне никуда не придется. Небывалое дело: я мысленно призывал банкротство моего дельца! Я входил в банк с замирающим сердцем и расцветал при словах «деньги не пришли», вызывая всеобщее удивление.
Как странно! Двадцать один год назад я собирался уехать в Америку на несколько лет, а может быть, и навсегда, даже писал сестре Нетте в Кёльн, что всё уже решено, отъезд назначен на сентябрь 1854 года, жена с девочками отправится к родным в Марсель и поживет там, пока я не устроюсь на новом месте. Я тосковал при мысли о многолетней разлуке с семьей, ведь в Новом Свете мне придется начинать всё с нуля – мне, салонному виртуозу, дирижеру из «Комеди-Франсез», развлекавшему публику музыкой в антрактах, автору одноактных опереток, которые ставили только на любительской сцене, отвергнутому претенденту на должность директора «Театр-Лирик»…
В Америку тогда уезжало много евреев и немцев (правда, я уже не причислял себя ни к тем, ни к другим). Судовладелец Самуил Маас, который в сорок четвертом году женился на моей старшей сестре Изабелле, увез ее в Техас, в Галвестон. Там как раз бушевала эпидемия желтой лихорадки, и Изабелла тотчас заболела, но выздоровела и выписала к себе нашу сестру Генриетту, которая вышла там замуж за ирландца Джона Джонса – единственного местного ювелира и часовщика, построившего первый в городе двухэтажный дом. У Джонса была также собственность в Нью-Йорке и Бруклине – вот туда-то я и намеревался ехать. Что мне было делать в Галвестоне, где всего две с половиной тысячи жителей и ни одного театра! Конечно, Изабелла продолжала петь, устраивая домашние концерты (Маас познакомился с ней, когда услышал ее пение в кёльнском соборе), но те времена, когда мы с братом Жюлем аккомпанировали ей на скрипке и виолончели, давно прошли. Нет, только Нью-Йорк! Большой город, где у меня не было ни связей, ни друзей – почти как в Париже, когда я явился туда четырнадцатилетним… А Париж собирался принимать в 1855 году Всемирную выставку. Было бы глупо уехать, не воспользовавшись этой возможностью. И я в кои-то веки не сделал глупость! Я остался во Франции, открыл свой маленький театрик в Париже, познал первый громкий успех, даже купил земельный участок под будущий дом в Этрета, дал два концерта в Дьеппе и просадил остаток денег в казино. И вот теперь Америка сама пришла ко мне на поклон, чтобы я отправился в Новый Свет вслед за собственной славой. Воистину: всё сбудется, но не тогда, когда этого ждешь.
В «Менестреле» написали, что американцы посулили Оффенбаху золотые горы, однако маэстро всё еще колеблется. Честно признаюсь: я не хотел ехать в Америку. То есть я был бы не прочь оказаться в этой стране, но я не хотел туда ехать. В юности мы готовы идти за мечтой пешком, неся на палке единственные башмаки, а в пожилые годы нас пугает мысль о часовой поездке на извозчике. Благодаря деловым господам, двигающим прогресс, у нас теперь есть железные дороги, пароходы, телеграф, а тридцать с лишним лет назад мы с отцом и братом неделю добирались дилижансом из Кёльна в Париж через Брюссель, глотая дорожную пыль и кормя клопов на станциях. Это была моя первая большая поездка, но я ее совершенно не помню, настолько все мои мысли были заняты главной целью нашего путешествия. Зато этой зимой, чтобы вернуться в Париж из Вены (два дня пути поездом с ночевкой в Страсбурге), мне пришлось собираться с силами целую неделю, хотя купе железнодорожного вагона первого класса не сравнить с дилижансом: у меня там даже установлен пюпитр, чтобы я мог работать дорогой…
И вот роковой день настал: деньги оказались выплачены, надежда умерла, ни один светлый луч уже не проникал сквозь густые тучи печали. Мне предстояло покинуть радость и уют привычного мира, отдавшись на волю коварной стихии. К счастью, свежие новости меня подбодрили: директором «Опера-Комик» вновь стал мой давний враг Эмиль Перрен, а это значит, что на планах отдать туда «Сказки Гофмана», которые я непременно напишу, придется поставить крест; с негодяем Бертраном из «Варьете», снявшим с репертуара «Фантазио» после десяти представлений, я больше не разговариваю, и если он хочет вернуть на сцену «Парижскую жизнь», чтобы спасти свой театр, пусть выкручивается сам, я ему не помощник. Ехать так ехать!
Итак, дамы и господа, мы представляем вашему вниманию «Оффенбах в Америке»!
Действующие лица
Жак Оффенбах, композитор. Высокий мужчина пятидесяти семи лет, утверждающий, что ему пятьдесят пять, с фигурой жука-палочника, опирающийся на трость; одет эксцентрично, но со вкусом, что не всегда заметно, поскольку он вечно кутается в меховую шубу до пят. Высокий лоб стремится к затылку вслед за отступающей линией льняных волос, в которых блестят серебряные нити. Немецки голубые глаза за стеклами французского пенсне, оседлавшего семитский нос меж длинных австрийских бакенбард; гаванская сигара торчит из-под коротких усов, которым еще не придумали национальности. Тонкие губы искривлены сардонической усмешкой. (Многие журналисты находят во мне сходство с Мефистофелем. Им виднее; я не встречал его лично.)
Эрминия Оффенбах, урожденная Алькайне, его жена. Пятидесятилетняя дама со следами былой красоты…
Терпеть не могу эту пошлую фразу! Что значит «следы красоты»? Мне сразу представляется потекший грим у плохой актрисы. Красота либо есть, либо нет, как и невинность. А Эрминия была и осталась испанской красавицей, и так считаю не только я. Обмолвлюсь сразу: на этих страницах моя жена ни разу не появится собственной персоной, но это не имеет никакого значения, потому что в мыслях она всегда со мной. Я не могу прожить и дня, не вспомнив о ней, не написав ей, не рассказав ей обо всём, что меня занимает, и не хочу упустить ни единой возможности заявить всему свету, как много значит для меня лучшая из женщин и добрейшая из матерей.
Далее:
дети и прочие родственники, друзья, враги и завистники Оффенбаха;
артисты, либреттисты, журналисты, музыканты, моряки;
официанты, политики, банкиры, антрепренеры и другие – их я буду называть и представлять по ходу действия.
Итак…
Ах да, как же это я позабыл! Рихард Вагнер, директор недостроенного театра, шестидесяти трех лет, немец до мозга костей, создатель новой музыки, которую кроме него понимают и ценят еще восемь человек (включая баварского короля Людвига, сошедшего на этой почве с ума и уплачивающего его долги), гонитель евреев, способных, на его взгляд, издавать только скрип, писк и жужжание, а не песни или мелодии. Новатор во всём, он выпячивает подбородок дальше носа и обзавелся детьми прежде, чем женился на их матери. О нём сейчас столько говорят, что я, пожалуй, уделю ему небольшую роль. Он не просто мой оппонент – он моя полная противоположность. Ну вот, у нас есть герой и антигерой – можно начинать.
Картина первая: Бушующий океан
Я выехал из Парижа 21 апреля 1876 года. Меня сопровождали исключительно мужчины: два зятя – Шарль Конт и Ахилл Турналь, два шурина – Роберт и Гастон Митчеллы, несколько друзей и мой сын Огюст – услада моей старости, бальзам для измученной души. Я запретил жене и дочерям ехать с нами в Гавр, думая, что от этого прощание выйдет менее душераздирающим, но как же я об этом пожалел! Теперь я отдал бы всё на свете, чтобы еще раз прижать Эрминию к моей груди!
Отправление парохода было назначено на восемь утра. Поднявшись по сходням, я сразу встал у ограждения палубы, вглядываясь в толпу провожающих на пристани. Пока пароход шел вдоль мола, я старался не терять из виду небольшую группу, махавшую платками, хотя и не мог разглядеть ни лиц, ни фигур: у меня уже давно неважное зрение, да еще и слезы застили глаза. Но солнце, сиявшее в девственно чистом небе, отражалось в пуговицах форменного мундира моего сына (он учится в коллеже Станислава, в классе риторики), словно подавая мне знак.
БАЛЛАДА О СЫНОВЬЯХ
Dolce, cantando
Рефрен (на мотив «Карильона» из «Великой герцогини Герольштейнской»):
Отцы хотят достать до неба,
Поставив на́ плечи детей,
Но тяжело Атлантов бремя
Для сыновей, для сыновей.
Мой сын Огюст появился на свет в шестьдесят втором году, почти одновременно с моими «Болтунами», но удался мне гораздо лучше. Это совершенно оригинальное произведение (после четырех дочерей я просто обязан был произвести переворот в нашем совместном творчестве с Эрминией), и на нём лежит не подлежащая сомнению печать автора (физическое сходство поразительное). Его рождение доставило мне невероятную радость, я чувствовал себя счастливым и спокойным за будущее Франции, но пару месяцев спустя, летом в Эмсе, меня обуяли совсем иные мысли: я поневоле оставлю сына сиротой слишком рано. Мне было тогда сорок три года (мой отец подарил мне жизнь в сорок, сохранив силы для еще троих детей), и я был уверен, что не доживу до шестидесяти. (Я и сейчас в этом уверен, почему и составил завещание год назад.) Поэтому я принял меры и заготовил впрок письма к сыну, чтобы оставить их у нотариуса. После моей смерти их будут посылать ему в назначенные дни. Таким образом, он сможет получать отцовские советы – единственное наследство, на какое ему приходится рассчитывать. Помимо партитур, разумеется. Это, конечно, не банковские билеты и не акции железнодорожных компаний, на такое наследство будет трудно прожить, зато его невозможно промотать.
Пока же я сам каждый день получаю письма от Огюста. Ему не было бы нужды тратиться на почтовые марки, если бы мы жили вместе, но он бывает дома лишь на каникулах, а я – еще реже. В этом секрет нашей счастливой семейной жизни с Эрминией (когда я вернусь, мы отпразднуем тридцать вторую годовщину свадьбы): она живет зимой в Париже и летом в Этрета, я же уезжаю на зиму в Ниццу, а всё остальное время разрываюсь между Веной, Пештом, Прагой, Брюсселем, Сен-Жерменом, тремя театрами в Париже, выбираясь летом на недельку в Баден. Понятно, что, если нам удается случайно встретиться на пару дней в этой бешеной гонке, наша радость не знает границ (а стоит нам пожить подольше вместе, как я из невероятного становлюсь невозможным). Дети тоже довольны: когда блудный папа приезжает в Этрета, на нашей вилле «Орфей» начинается буйное, шумное веселье, гости, праздники, маскарады, прогулки под луной, танцы до утра, шутки, песни, всяческие дурачества, взрослые дяди квакают, лают, мяукают, кричат петухами, ходят на голове… Потом папа снова уезжает, и можно вздохнуть спокойно.
При этом лучше всего мне работается именно в Этрета. Я привожу туда своих либреттистов – Анри Мельяка и Людовика Галеви, потому что нам нужно быть вместе, чтобы работа подвигалась. Принявшись за новую пьесу, ты словно женишься на своих либреттистах и всё время таскаешь их за собой. (А вот Вагнер выдаивает из себя либретто своих опер собственноручно.) Мельяк вечно влюблен и отлынивает от работы, Людо хнычет в письмах к своей матери, что я не отпускаю его домой, а я приписываю в конце, что и не отпущу, пока эти лентяи не выдадут мне достаточное количество стихов. Наконец, когда из наших споров рождаются несколько готовых кусков, я играю их Эрминии, чтобы узнать ее мнение, рассердиться, сказать ей, что она ничего не понимает в музыке, а потом признать, что она права. Огюст – второй человек, которого я допускаю на такие прослушивания. Он довольно прилично играет на пианино и пытается сочинять. Не так давно он прислал мне в постскриптуме к своему письму доминантсептаккорд ми бемоль и такие слова: «Когда я стану совсем-совсем стареньким, я буду дребезжащим голосом напевать твои мелодии моим внукам, а они будут гордиться тем, что я помогал великому Жаку в его работе!» В самом деле, у меня не вытанцовывалась модуляция в одной из сцен «Сказок Гофмана», и аккорд ми бемоль был именно тем, что нужно! Ах, милый мой мальчик! Надеюсь, музыка не мешает его учебе, а то еще завалит экзамены на бакалавра, балбес этакий!
Можно любить музыку и быть при этом врачом, инженером, промышленником, коммерсантом или политиком – не повредит. Мой благодетель граф де Морни, крестный отец Огюста (кстати, через месяц после крестин его повысили до герцога), был главой Законодательного собрания и удачливым дельцом, что не мешало ему сочинять водевили под псевдонимом «виконт де Сен-Реми». Я слегка помог ему с партитурой «Мужа по незнанию» (так, самую малость: оркестровал увертюру, куплеты, финал), а уж к «Месье Шуфлери останется дома» все музыкальные номера написал сам, чем обрадовал его, а не обидел. Но если музыка становится твоей единственной страстью, это беда: нужно либо иметь большой талант, либо умереть.
Мое первое сочинение – «Дивертисмент на швейцарские мелодии» – напечатали в Кёльне, когда мне было двенадцать лет. Отец этим очень гордился. Он тоже писал музыку, но больше религиозную, например, кантату «Эсфирь, царица Персии» для праздника Пурим. Отец верил в мой талант, им же выпестованный (Исаак родил Иакова…), потому и отвез меня в Париж. Он мечтал о том, что я окончу Консерваторию, но я бросил ее через два года. Что мне там было делать? Мрачное здание, похожее на тюрьму, с отдельными входами для юношей и девушек и казарменной дисциплиной. Консерватория закладывает основы, преподает правила искусства, но не будит вдохновения – за вдохновением надо идти в театр, в свет, на танцы в Мабиль! Впитывать его из парижского воздуха! За три года в оркестре «Опера-Комик», вытвердив почти наизусть полтора десятка партитур Обера1, я научился гораздо большему в области композиции и оркестровки, чем мог бы узнать в классе Фроманталя Галеви или даже самого директора Керубини, а выступления в аристократических салонах и на бенефисах сделали меня артистом. (Я отпустил волосы до плеч, подражая Ференцу Листу, и научился энергично ими встряхивать во время игры; однажды я упал в «обморок» рядом с истомленной негой виолончелью, дамы бросились воскрешать меня нюхательными солями, от которых я в самом деле чуть не лишился чувств, зато моя репутация виртуоза заметно окрепла.) Чего я мог добиться в Консерватории? Меня как иностранца даже не допустили бы к конкурсу на Римскую премию. Велика важность! Альфонс Тис, Ксавье Буассело, Жорж Буске – вам что-нибудь говорят эти имена? Все они получили Римскую премию. А еще шесть лауреатов почли за честь отдать свои произведения в мой театр «Буфф-Паризьен»! При этом маэстро Жак не загордился, а продолжал учиться у других (надеюсь, Берлиоз не узнал, что я пользовался его трактатом об инструментовке, когда писал партии валторны и трубы для «Рейнских русалок») и своим каноном из «Разбойников» вполне убедительно доказал, что прекрасно владеет контрапунктом. Господа критики могут сколько угодно называть меня недоучкой, их плевки до меня не долетают – уж очень высоко они задирают нос.
Я разочаровал отца не только тем, что ушел из Консерватории: я отрекся от веры, в которой был рожден. Но не потому что «культурный сын еврейства», пользуясь словами Вагнера, просто обязан так поступить, чтобы «избавиться от проклятия Агасфера». Если бы я этого не сделал, то не смог бы жениться на Эрминии. Гуно заставили пойти под венец с дочкой коллеги Циммермана, Бизе посватался к дочке своего учителя Галеви, я же мечтал о девушке совершенно иного круга, и мне не навязали ее, а заставили заслужить. Переход в католичество был лишь одним из условий, выставленных ее родителями, причем не самым главным: прежде я должен был иметь успех за границей. Я поехал в Лондон, выступил там перед королевой Викторией, принцем Альбертом и прочей венценосной публикой, вернулся и получил руку королевы моего сердца. Отец в конце концов простил мое вероотступничество. Он понял, как ему повезло, что у него непослушный сын. Уж если на то пошло, то в детстве он запрещал мне играть на виолончели – слишком громоздком инструменте для моего хилого телосложения, так что поначалу я учился тайно, а потом въехал на виолончели в парижский бомонд, точно на боевом коне! Меня и в Консерваторию-то приняли только потому, что желающих играть на виолончели было мало: наибольшим спросом пользовались рояль и скрипка. (Ференца Листа, например, не взяли.) Да здравствует непослушание! Отец Адана, преподававший игру на рояле в Парижской Консерватории, не желал, чтобы сын пошел по его стопам, но Адольф тайно и усердно занимался музыкой, и когда ему исполнилось четырнадцать, отец с удивлением увидел его среди студентов Консерватории – но не своих, а Франсуа-Адриена Буальдьё, в классе композиции. Отец Берлиоза, напротив, хотел, чтобы сын избрал себе его стезю, то есть стал врачом. Позволив Гектору научиться играть на дудочке, флейте и гитаре, он строго-настрого запретил ему и близко подходить к роялю, а в семнадцать лет отправил в Париж изучать медицину, но вместо анатомического театра Берлиоз часами просиживал в библиотеке при Консерватории над партитурами Глюка, а случайно оказавшиеся у него деньги тратил на походы в Оперу. Да что там, если бы Вольфганг Амадей Моцарт во всём слушался своего отца, он так и остался бы придворным музыкантом взбалмошного архиепископа.
У меня всего один сын, а у отца нас было трое: Юлиус (во Франции он стал Жюлем), я и Михель. Любил ли отец нас всех одинаково? Мне кажется, он всё же предпочитал меня, отводя Юлиусу, хоть он и старше, роль моей опоры. Жюль это чувствовал и, конечно же, ревновал2… А Михель, самый младший в семье, был не менее талантлив, чем я (по крайней мере, как виолончелист), но внезапно умер, не дожив до пятнадцати лет. Это было огромное горе для всех нас, матушка так от него и не оправилась и угасла сама – ровно через девять месяцев… Лишь бы мой Огюст был здоров; у меня ведь нет трех сыновей. Как я перепугался шесть лет назад, когда он упал с пони и расшибся! К тому же лошадь разбила копытом ему лицо, раскроив его миленький носик пополам! Ударь она чуть повыше – и мальчика было бы не спасти. К счастью, в Этрета отдыхал тогда знаменитый хирург; он зашивал раны целых полтора часа – я совершенно извелся за это время. Как раз тогда Франция объявила Пруссии войну; я не обратил на это никакого внимания, поглощенный куда более важными заботами.
Мой отец верил в меня с теми же простодушием и добросовестностью, с какими ходил в синагогу. Когда я узнал, что он сложил с себя обязанности кантора, то немедленно послал Жюля в Кёльн: что-то не так. Отцу перевалило за семьдесят, но двумя годами раньше, когда я привез к нему свою повинную голову, Эрминию и нашу маленькую Берту, он был бодр и крепок, Эрминию полюбил, как собственную дочь, а мне вернул свое благорасположение. Даже после провала моей комической оперы в Кёльнском театре (парижские любители исполняли ее куда лучше, чем профессиональные кёльнские актеры) он не отчаялся и не утратил своей веры. Моя тревога оказалась ненапрасной: отец тяжело заболел – язва кишечника… Той весной 1850 года я купался в любви интеллигентной публики, аристократическое население парижских салонов следовало за мной по пятам, оглушая криками «браво!», на один из моих концертов пришел великий поэт Виктор Гюго, недавно ставший депутатом, и тут я узнаю из газет, что мой отец скончался! Сестра Нетта и Жюль молчали как могила – они, видите ли, не хотели мешать моему триумфу! Только один старый знакомый в конце концов написал мне о его кончине, и то лишь через несколько дней после похорон. Как я был на них зол тогда! Каким мишурным показался мне мой успех, который я не мог разделить со своим отцом! Его портрет висит в моем рабочем кабинете, поэтому отец всегда первым слышит мою музыку и видит, что я не бездельничаю. Я не уверен насчет возможности вечной жизни – об этом никто не может знать наверное, – но пока я помню об отце и рассказываю о нём другим, он всё ещё жив. Ах, Огюст, боюсь, что и мне суждена та же участь – следить за твоими успехами из портретной рамки…
Но вернемся к моему путешествию.
«Канада» – красивый пароход, сияющий новизной. Как и я, он совершает своё первое путешествие в Америку. Я много раз бывал на премьерах и уже не испытываю особого волнения. Что ж, посмотрим, каким выйдет его дебют.
Поскольку мне предстояло провести здесь почти две недели, имело смысл познакомиться с местным обществом.
Капитан Франжёль – настоящий моряк, превосходный человек и очаровательный собеседник, делающий всё возможное, чтобы скрасить пассажирам однообразие длительного переезда. Старший стюард Бетселер уже «имел счастье», как он выразился, потерпеть кораблекрушение: он находился на «Жиронде», когда та столкнулась с «Луизианой» и затонула. Он чудесным образом спасся, а потому больше ничего не боится. Судовой врач Фламан тоже едет через океан впервые. Бедный доктор! Медицинское образование – не защита от морской болезни. Через сутки он перестал выходить к столу, и я доставлял себе удовольствие справляться каждое утро о его здоровье. Что касается пассажиров, то среди них были две хорошенькие девушки из Филадельфии, несколько коммерсантов, следующих на выставку, и несколько участников выставки, преследующих коммерческие цели, а также еще с десяток человек, о которых мне ровно нечего сказать. Моя свита состояла из Лино Бакеро, заманившего меня на этот пароход длинным долларом, его секретаря Ариготти – бывшего тенора, воспитанника Парижской Консерватории, который потерял голос, но нашел хорошее место (он легко заводит связи и непринужденно играет на пианино), Булара, которого я взял себе в помощь на случай, если ревматизм помешает мне дирижировать, а он потащил с собой молодую жену, и мадемуазель Эме, уже бывавшую в Америке.
Она вернулась оттуда, осыпанная бриллиантами (скорее всего, фальшивыми), и вышла в них на сцену в роли Марго – «Состоятельной булочницы», которую мы с Мельяком и Галеви писали для Шнайдер. У Гортензии бриллиантов не меньше, и чистой воды (она привезла их из России), но она отказалась от роли, решив, что будет не так ярко сиять, деля сцену с Паолой Марье, игравшей Туанон. Ах, эти женские склоки! Сколько хороших пьес они погубили! Гортензия была бы великолепна и в рубище, ведь у нее и сильный голос, и стать, и актерский талант, а все павлиньи перья мадемуазель Эме критики повыщипали уже после премьеры, посмеявшись над ее «вороньим карканьем», от которого перекашивает ее «унылое невыразительное лицо». (Есть критики, которые считают, что в газетах можно печатать что угодно; попробовали бы они высказать то же самое вслух! Их перестали бы принимать в приличном обществе.) «Булочница» сошла со сцены после сорок седьмого представления, в начале декабря прошлого года. Людовик ныл о том, что иначе и быть не могло: наша троица исписалась, сколько можно сочинять эти куплеты, хоры, марши, рондо, финалы, нам уже не двадцать и даже не сорок лет, с опытом приходит осторожность и опасливость, а для нашего жанра нужны дерзость, фантазия и бесстрашие, побеждают те, кто способен спрыгнуть с кручи, а мы ищем лестницу… Пусть говорит за себя! Я убедил Бертрана возобновить «Булочницу» в мае – ах, как жаль, что меня не будет в это время в Париже! На роль Марго возьмут Терезу – жемчужное зерно, которое я отыскал в навозной куче кафе-шантанов. Какая стать, какой задор, какая четкая дикция и что за голос! Когда сборы от «Путешествия на Луну» пошли на спад, я специально для нее написал целую роль – четыре музыкальных номера! – и Тереза совершенно покорила публику «Гэте». Многочасовую феерию теперь давали дважды в день! Ну и кому, как не ей, сыграть булочницу, выбившуюся в люди?..
Первые два дня путешествия прошли очень хорошо, погода стояла прекрасная. Я замечательно выспался в субботу во время стоянки в Плимуте. К покачиванию корабля даже привыкаешь, так что в ночь на воскресенье, когда пароход вдруг остановился, я проснулся, как от толчка. Испугавшись, не случилось ли какой беды, я спрыгнул с койки, натянул одежду и поднялся на палубу. Тревога оказалась ложной, корабль продолжил плавание, но сон мой улетучился, и покой тоже. Я снова лег одетым, опасаясь несчастья, поскольку пароход останавливался каждые четверть часа, винт работал нерегулярно. Словно этого было мало, разразился шторм.