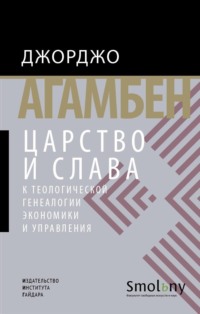Kitobni o'qish: «Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления»
© 2007 and 2009 by Giorgio Agamben. All rights reserved
© Издательство Института Гайдара, 2018
Oeconomia Dei vocamus illam rerum omnium administrationem vel gubernationem, qua Deus utitur, inde a condito mundo usque ad consummationem saeculorum, in nominis sui Gloriam et hominum salutem*1.
J. H. Maius. Oeconomia temporum veteris Testamenti
Chez les cabalistes hébreux, malcuth ou le règne, la dernière des séphiroth, signifiait que Dieu gouverne tout irresistiblement, mais doucement et sans violence, en sorte que l'homme croit suivre sa volonté pendant qu'il exécute celle de Dieu. Ils disaient que le peché d'Adam avait été truncatio malcuth a ceteris plantis; c'est-à-dire qu'Adam avait retranché la dernière des séphires en se faisant un empire dans l'empire2.
G. W. Leibniz. Essais de théodicée3
Нужно различать право на верховную власть и ее осуществление, ибо они могут существовать раздельно, как, например, когда тот, кто обладает правом, не может или не хочет сам участвовать в решении споров или в обсуждении каких-то дел. Ведь иной раз цари не могут заниматься делами по возрасту, а иной раз, если даже могут, предпочитают осуществлять свою власть через помощников и советников. А там, где право на власть и ее осуществление разделены, там государственное правление похоже на установленное правление миром, в силу которого Бог, этот всеобщий перводвигатель, производит через ряд вторичных причин все, что совершается в природе. Там же, где обладающий правом власти желает сам участвовать во всех судах, совещаниях и общественных действиях, такого рода администрирование можно было бы сравнить с тем, которое осуществлял бы Бог, пожелавший вопреки установленному порядку непосредственно проявить себя во всяком деле.
Т. Гоббс. О гражданине
Покуда мир существует, ангелы будут начальствовать над ангелами, люди – над людьми, бесы – над бесами; но когда все будут собраны вместе, тогда всякое начальство упразднится.
Glossa ordinaria (ad I Cor., 15, 24)4.
Ахер увидел, что Метатрону было даровано позволение сидеть и записывать заслуги Израиля. Сказал он: «Учили меня, согласно традиции, что в вышнем мире не сидят, не соперничают, не отворачиваются и не устают. Быть может – Боже упаси! – существуют два божества5».
Талмуд. Хагига 15а
Предисловие
Настоящая работа ставит себе целью исследовать вопрос о том, каким образом и почему власть на Западе приняла форму ойкономии, то есть управления людьми. Таким образом, она располагается в плоскости исследований Мишеля Фуко в области генеалогии управленчества, в то же время силясь прояснить внутренние причины, по которым эти исследования не были завершены. Тень, которую теоретическое осмысление настоящего отбрасывает на прошлое, значительно выходит здесь за хронологические рамки, коими Фуко ограничил свою генеалогию, простираясь до ранних веков христианского богословия, к которым относится первая, приблизительная разработка учения о триединстве в форме ойкономии. Поместить управление в его теологический locus8 в тринитарной ойкономии не означает попытку объяснить его через иерархию причин, словно теология по определению обладает более высоким генетическим статусом; это значит показать, каким образом диспозитив тринитарной ойкономии может образовывать привилегированное пространство наблюдения за тем, как функционирует и артикулируется – одновременно изнутри и снаружи – управленческая машина. Ибо именно в нем элементы, или полярности, через которые артикулируется эта машина, являют себя, так сказать, в их парадигматической форме.
Исследование генеалогии, или, как раньше было принято говорить, природы власти, на Западе длится уже более десяти лет, открывшись серией «Homo sacer», и достигает таким образом своей развязки, во всех смыслах определяющей. Двоякая структура управленческой машины, которая в «Чрезвычайном положении» (2003) представлена в виде корреляции между auctoritas и potestas, обретает здесь форму сочленения Царства и Правления и в итоге приводит к возможности исследования самой связи – значение которой изначально не было учтено – между ойкономией и Славой, между властью как эффективным правлением и менеджментом и властью в ее церемониальном и литургическом аспекте – два момента, любопытным образом проигнорированные как политическими философами, так и политологами. Даже исторические исследования, посвященные знакам отличия и литургиям власти, от Петерсона до Канторовича, от Алфёлди до Шрамма, упустили из виду эту связь, оставляя в стороне все же весьма очевидные вопросы: почему власть нуждается в славе? Если она в своей сущности есть сила и способность к действию и управлению, почему она принимает жесткую, громоздкую, «величественную» форму церемоний, аккламаций и протоколов? Какова связь между экономикой и Славой?
Эти вопросы – на уровне политических и социологических исследований, по всей видимости обреченные лишь на банальные ответы, – будучи рассмотренными в их теологическом аспекте, позволили различить в отношении между ойкономией и Славой нечто вроде предельной структуры западной управленческой машины. Анализ литургических возгласов и слaвословий, ангельских званий и песнопений оказался, таким образом, более плодотворным для постижения структуры и функционирования власти, чем многочисленные псевдофилософские изыскания в области народного суверенитета, Правового государства или коммуникативных процедур, регулирующих формирование общественного мнения и политической воли. Распознавать именно в категории Славы ключевую загадку политической власти и исследовать неразрывную связь, соединяющую ее с правлением и ойкономией, кому-то может показаться странной операцией. Тем не менее, один из результатов нашего исследования констатирует как раз то, что функция аккламаций и самой Славы в ее современной форме общественного мнения и согласия и по сей день находится в центре политических диспозитивов современных демократий. Если средства массовой информации играют такую важную роль в современных демократиях, то это происходит не только потому, что посредством их осуществляются контроль и управление общественным мнением, но и главным образом потому, что они утверждают и распространяют Славу – тот самый рукоплескательный и славословный аспект власти, который, казалось бы, в эпоху модерна себя изжил. Общество спектакля – если мы применим этот термин к современным демократиям – с этой точки зрения есть общество, в котором власть в своем «самовосхвалительном» аспекте становится неотличимой от ойкономии и от самого управления. Более того, в полном отождествлении Славы с ойкономией в форме бурного согласия состоит особая задача современных демократий и их government by consent, чья изначальная парадигма прописана не на греческом Фукидида, а на черствой латыни средневековых и барочных трактатов о божественном управлении миром.
Все это означает, тем не менее, что в центре управленческой машины – пустота. Пустой трон, hetoimasia tou thronou, который появляется на сводах и в абсидах палеохристианских и византийских базилик, представляет собой в этом смысле, пожалуй, самый красноречивый символ власти. Здесь исследование достигает своего предела и в то же время своего временного завершения. И если, как кто-то заметил, в каждой книге есть нечто вроде скрытого центра, ради достижения или уклонения от которого книга и была написана, то этот центр в данном случае расположен в последних параграфах 8-й главы. Вопреки наивному преувеличению роли производительности и труда, которое длительное время препятствовало доступу модерна к политике как к собственнейшему человека, политика здесь представлена в свете своей изначальной, принципиальной для нее без-деятельности – то есть действия, состоящего в том, чтобы обратить в бездеятельность все человеческие и божественные дела. Пустой трон, символ Славы, есть то, что необходимо профанировать, чтобы вне его дать место чему-то такому, к чему мы лишь частично можем воззвать через словосочетание zoē aiōnios, вечная жизнь. И лишь когда четвертая часть исследования, посвященная форме-жизни и пользованию, будет завершена, решающее значение бездеятельности как собственно человеческой и политической практики предстанет в своем истинном свете.
1. Две парадигмы
1.1. У истоков этого исследования лежит попытка реконструировать генеалогию парадигмы, которая редко тематизировалась как таковая за пределами узкотеологической сферы, но которая при этом оказала определяющее влияние на развитие и глобальное устройство западного общества. Один из тезисов, которые оно ставит себе целью доказать, состоит в том, что в христианской теологии берут начало две политические парадигмы в широком смысле, антиномически друг другу противопоставленные, но при этом функционально связанные: политическая теология, которая в едином Боге утверждает трансцендентность суверенной власти, и экономическая теология, которая замещает эту идею концепцией ойкономии, понятой как имманентный порядок – домашний, а не политический в узком смысле – как божественной, так и человеческой жизни. Первая парадигма дает начало политической философии и современной теории суверенитета; из второй вырастает современная биополитика вплоть до наблюдаемого в настоящее время триумфа экономики и управления над всеми остальными аспектами социальной жизни.
По причинам, которые будут освещены в ходе исследования, история экономической теологии, основное развитие которой пришлось на период со II по V век нашей эры, до такой степени прочно оставалась в тени не только для историков идей, но и для теологов, что даже точное значение этого термина было предано забвению. Таким образом, как ее очевидная генетическая близость аристотелевской экономике, так и в целом представимая связь с рождением éсonomie animale9 и политической экономии XVIII века до сих пор не были исследованы. Тем более неотложной представляется необходимость археологического исследования, которое изучило бы причины этого вытеснения и попыталось бы взойти к событиям, его породившим.
ℵ Хотя проблема ойкономии присутствует в многочисленных монографиях, посвященных отдельным Отцам (показательна в этом отношении работа Жозефа Муанта «Théologie trinitaire de Tertullien»10, которая содержит относительно полную историю вопроса во II и III веках), испытывался недостаток в комплексном исследовании этой фундаментальной теологической проблемы вплоть до недавнего появления работы Герхарда Рихтера «Oikonomia», вышедшей в свет, когда историческая часть настоящего исследования была уже завершена. Книга Мари-Жозе Мондзен «Образ, икона, экономия» («Image, icône, éсonomie») ограничивается анализом роли этого понятия в иконоборческих спорах в VIII и IX веках. Даже после обширного исследования Рихтера, впрочем носящего, вопреки названию, скорее теологический, чем филолого-лингвистический, характер, существует необходимость адекватного лексического анализа, который пришел бы на смену добротному, но уже устаревшему труду Вильгельма Гасса «Das patristische Wort oikonomia»11 (1874) и трактату Отто Лилльге «Das patristische Wort „oikonomia“. Seine Geschichte und seine Bedeutung»12 (1955).
Существует вероятность – по крайней мере в том, что касается теологов, – что это исключительное забвение вызвано смущением перед тем, что не могло не представать как своего рода pudenda origo13 тринитарного догмата (тот факт, что первая формулировка теологумена, во всех смыслах основополагающего для христианской веры, а именно – о таинстве Троицы, изначально предстает как «экономический» диспозитив, по сути не являет собой ничего удивительного). О закате этого понятия – закате, который, как мы увидим, cопутствует его проникновению и распространению в разных областях, – свидетельствует скудное внимание, которое ему уделено в тридентских канонах: несколько строк в разделе De dispensatione (dispensatio, как и dispositio, является латинским переводом ойкономии) et mysterio adventus Christi. В протестантской теологии Нового времени проблема ойкономии вырисовывается вновь – но лишь в качестве смутного и неопределенного предвестника темы Heilsgeschichte14; между тем истинно скорее обратное утверждение – а именно, что теология «истории спасения» является частичным и в целом упрощенным возвращением гораздо более широкой парадигмы. В итоге в 1967 году удалось опубликовать Festschrift15 по случаю шестидесятипятилетия Оскара Кульмана, «Oikonomia. Heilsgeschichte als Thema der Theologie»16, где термин ойкономия появляется лишь в одном из тридцати шести докладов.
1.2. Теолого-политическая парадигма нашла выражение в 1922 году в лапидарном тезисе Шмитта: «Все ключевые понятия современного учения о Государстве представляют собой секуляризированные теологические понятия» (Schmitt 1. Р. 49). Если наша гипотеза о двойной парадигме верна, то это утверждение должно было быть дополнено таким образом, чтобы его значимость выходила далеко за пределы общественного права, вплоть до вовлечения в ее поле основных понятий экономики и самой концепции репродуктивной жизни человеческих обществ. Тезис, согласно которому экономика рассматривается как секуляризированная теологическая парадигма, ретроспективно меняет cуть самой теологии, ибо предполагает, что божественная жизнь и история человечества изначально понимаются ею как ойкономия; иными словами, он предполагает, что теология в силу своей внутренней природы является «экономической», а не становится таковой в результате секуляризации. То, что живое существо, созданное по образу Божью, в конце концов оказывается неспособным к политике, но способным к экономике, – или, иначе говоря, то, что история в конечном счете является не политической, а «управленческой» и «административной» проблемой, – в данной перспективе есть лишь логическое следствие экономической теологии. То обстоятельство, что в центре евангельской вести – как результат единственного в своем роде переворота классического иерархического отношения – находится zoē aiōnios, а не bios, безусловно, представляет собой нечто большее, чем простой лексический факт. Вечная жизнь как конечный объект усилий христианина в конечном итоге принадлежит парадигме ойкоса, а не полиса; theologia vitae, cогласно остроумному каламбуру Таубеса, всегда пребывает в процессе обращения в «теозоологию» (Taubes. Р. 41).
ℵ Тем более неотложной представляется необходимость предварительно прояснить значение и коннотации термина «секуляризация». Что это понятие играет стратегическую роль в культуре Нового времени, что оно в этом смысле относится к области «политики идей», то есть является тем, что «в пространстве идей всегда находило противника в борьбе за господство» (Lübbe. Р. 20), – факт общеизвестный. И это касается как секуляризации в узкоюридическом смысле, – отсылая к изначальному значению термина saecularisatio как возвращения монаха в мир, в Европе XIX века она становится лозунгом в конфликте между Государством и Церковью, связанным с экспроприацией церковных владений, – так и метафорического употребления этого понятия в области истории идей. Когда Макс Вебер формулирует свой знаменитый тезис о капиталистической этике труда как секуляризации пуританской аскезы, кажущаяся нейтральность диагноза не может скрыть ее функциональности в борьбе за «расколдовывание» мира, которую Вебер ведет против фанатиков и ложных пророков. Аналогичные наблюдения можно сделать и в отношении Трëльча. Каков же в этом контексте смысл шмиттианского тезиса?
Стратегия Шмитта в определенном смысле обратна стратегии Вебера. Если для Вебера секуляризация являлась одним из аспектов процесса нарастающего отрезвления и де-теологизации современного мира, то у Шмитта она, напротив, представляет собой прямое подтверждение того, что теология продолжает существовать в современном мире и серьезно на него воздействовать. Это не обязательно подразумевает тождество содержания между теологией и модерном – как не влечет за собой абсолютного смыслового тождества между теологическими понятиями и политическими понятиями; речь идет скорее об особого рода стратегическом отношении, «помечающем» политические понятия и отсылающем к их теологическим истокам.
Секуляризация, таким образом, является не понятием, а «сигнатурой» в том смысле, в котором употребляли этот термин Фуко и Меландри (Melandri. Р. XXXII), – то есть чем-то таким, что, содержась в знаке или в понятии, «помечает» его и выходит за его пределы, отсылая к определенной его трактовке или ограничивая область его значений, не выходя при этом из семиотического измерения с целью формирования нового значения или понятия. Сигнатуры смещают и переносят понятия и знаки из одной сферы в другую (в данном случае – из сакральной сферы в светскую), не ведя при этом к их семантическому переосмыслению. Многие понятия, очевидно принадлежащие философской традиции, являются в этом смысле сигнатурами, которые, подобно «тайным указателям», о которых говорил Беньямин, выполняют определенную жизненную стратегическую функцию, в течение длительного времени ориентируя интерпретацию знаков в определенном направлении. Поскольку они устанавливают связь между различными временами и сферами, сигнатуры действуют, если можно так выразиться, как исторические элементы в чистом виде. Археология Фуко и генеалогия Ницше (и в несколько ином плане – деконструкция Деррида и теория диалектических образов Беньямина) являются науками о сигнатурах, которые существуют параллельно истории идей и понятий и не должны с ними смешиваться. Если отсутствует способность раcпознавать сигнатуры и прослеживать переносы и смещения, производимые ими в традиции идей, то простая история понятий зачастую может оказаться совершенно несостоятельной.
В этом плане секуляризация действует на понятийную систему модерна как сигнатура, отсылающая ее к теологии. Подобно тому как, согласно каноническому праву, секуляризованный священник должен был носить знак ордена, к которому он принадлежал, секуляризированное понятие демонстрирует свою былую принадлежность к теологической сфере. Решающим моментом всякий раз является то, как именно понимается отсылка, осуществляемая теологической сигнатурой. Секуляризация таким образом может быть понята (как, например, в случае Гогартена) как особое проявление христианской веры, которое впервые открывает человеку мир в его светскости и историчности. Теологическая сигнатура выступает здесь как некий trompe-l-œil17, в котором именно секуляризация мира становится отличительным признаком его принадлежности к божественной ойкономии.
1.3. Во второй половине 1960-х годов в Германии развернулся спор о проблеме секуляризации, в который в разной степени и разным образом оказались вовлечены Ганс Блюменберг, Карл Лëвит, Одо Maрквард и Карл Шмитт. Отправной точкой для этого спора послужил тезис, высказанный Лëвитом в 1953 году в его труде «Weltgeschichte und Heilsgeschehen» («Мировая история и Спасение»), согласно которому как немецко-идеалистическая философия истории, так и просветительская идея прогресса являются не чем иным, как секуляризацией теологии истории и христианской эсхатологии. Хотя Блюменберг, отстаивая «легитимность Нового времени», решительно утверждал нелегитимный характер самой категории секуляризации, так что Лëвит и Шмитт вопреки своей воле оказались по одну сторону баррикад, – как было тонко замечено (Carchia. Р. 20), этот диспут был более или менее сознательно инсценирован для того, чтобы скрыть истинный предмет спора, коим являлась не столько секуляризация, сколько философия истории и составлявшая ее предпосылку христианская теология, против которых мнимые противники выступали единым фронтом. Эсхатология спасения, о которой говорил Лëвит и сознательным возобновлением которой была философия немецкого идеализма, являла собой лишь один из аспектов более широкой теологической парадигмы, а именно – божественной ойкономии, которую мы ставим себе целью исследовать и на вытеснении которой основывался данный спор. Еще Гегель прекрасно отдавал себе в этом отчет, когда утверждал равноценность между своим тезисом о рациональном управлении миром и теологической доктриной о провиденциальном проекте Бога, и представлял собственную философию истории как теодицею («в том, что всемирная история […] есть действительное становление духа […], заключается истинная теодицея, обоснование Бога в истории»). В еще более недвусмысленных терминах в заключении «Философии откровения» Шеллинг резюмировал собственную философию, представив ее посредством теологической фигуры ойкономии: «Древние теологи проводили различие между akratos theologia и oikonomia. Они сопринадлежат друг другу. Нашим стремлением было указать именно в направлении процесса домашней экономики (oikonomia)» (Schelling. Р. 325). Признаком упадка философской культуры является тот факт, что подобное ее увязывание с экономической теологией стало в наше время до такой степени невообразимым, что смысл самих этих утверждений от нас ускользает. Одна из задач настоящего исследования заключается в том, чтобы вновь сделать открытым для прочтения утверждение Шеллинга, которое по сей день оставалось мертвым словом.
ℵ Разница между теологией и ойкономией, между бытием Бога и его деятельностью, на которую намекает Шеллинг, играет, как мы увидим, фундаментальную роль в восточной теологии, от Евсевия до халкидонцев. Непосредственные источники Шеллинга следует искать в области употребления понятия ойкономии в пиетистских кругах, особенно у таких авторов, как Бенгель и Этингер, чье влияние на мысль Шеллинга уже подробно задокументировано. Ключевым моментом, однако, является то, что Шеллинг мыслит свою философию откровения как теорию божественной экономики, которая вводит в бытие Бога личность и действие, делая его, таким образом, «господином бытия» (Schelling. Р. 172). В этой связи он цитирует отрывок из Посланий Павла (Еф. 3:9), посвященный «экономике тайны», лежащей в основе доктрины теологической ойкономии:
Апостол Павел говорит о Божьем замысле, сокрытом от века и ныне ставшего явным через Христа, – тайне Бога и Христа, которая явила себя миру через пришествие Христа. Именно здесь становится ясно, каким образом возможна философия откровения. Она не должна пониматься, подобно мифологии, как необходимый процесс: ее следует постигать наиболее свободным образом – как решение и действие совершенно свободной воли. Через откровение вводится новое, или второе творение, само откровение является делом всецело свободной воли [Schelling. Р. 253].
Шеллинг, таким образом, расценивает введение им абсолютной и ан-архической свободы в онтологию как возобновление и осуществление теологического учения об ойкономии.
1.4. В период с 1935 по 1970 год между Эрихом Петерсоном и Карлом Шмиттом – авторами, которые в силу различных причин могут быть определены как «апокалиптики контрреволюции» (Taubes. Р. 19), – разгорелась уникальная по своему содержанию полемика. Уникальная не только потому, что оба ее участника были католиками и разделяли общие теологические предпосылки, но и потому, – как показывает длительное молчание, разделяющее две даты, – что ответ правоведа поступил тогда, когда теолог, зачавший полемику, уже десять лет как почил в могиле, и в целом отталкивался, как свидетельствует Послесловие (Nachwort), которое его венчает, от более позднего спора о секуляризации. «Парфянская стрела»18 (Schmitt 2. P. 10), брошенная Петерсоном, по всей видимости, была еще прочно вонзена в плоть, если, по словам самого Шмитта, «Politische Theologie II»19, содержавшая запоздалый ответ, ставила себе целью «извлечь ее из раны» (Ibid.). Центром полемики была политическая теология, которую Петерсон решительно подвергал сомнению; но возможно, что, как и в случае спора о секуляризации, заявленный объект дискуссии таил в себе другой, более опасный и эзотерический вопрос, который мы здесь и постараемся прояснить.
В каждом произведении мысли – как, возможно, во всяком человеческом деле – есть некая область недосказанного. Но есть такие авторы, которые стремятся по возможности приблизиться к этому недосказанному и хотя бы намеками обозначить его; есть, напротив, авторы, которые сознательно о нем умалчивают. Общей для двух противников была теологическая концепция, которую можно определить как «катехетическую». Будучи католиками, они не могли не исповедовать эсхатологическую веру во второе пришествие Христа. Но оба, ссылаясь (Шмитт – открыто, Петерсон – скрыто) на 2 Фес. 2, утверждают, что есть нечто такое, что откладывает и сдерживает эсхатон, то есть пришествие Царства и конец света. Для Шмитта таким сдерживающим элементом является Империя; для Петерсона – отказ евреев верить в Христа. Таким образом, как для правоведа, так и для теолога настоящая история человечества есть interim20, основанный на запаздывании Царства. Тем не менее, в первом случае запаздывание совпадает с суверенной властью христианской империи («Единственно лишь вера в замедляющую силу, способную сдержать конец света, наводит мосты между эсхатологическим параличом всякой человеческой событийности и такой грандиозной исторической мощью, как величие христианской империи германских королей»: Schmitt 3. Р. 44); во втором случае задержка пришествия Царства, вызванная несостоявшимся обращением евреев, служит обоснованием исторического существования Церкви. Работа 1929 года, посвященная Церкви, не оставляет на этот счет никаких сомнений: «Церковь может существовать только потому, что „евреи, будучи избранным Богом народом, не уверовали в Господа“» (Peterson 1. Р. 247) – и поэтому, как следствие, в ближайшее время конец света не наступит. «Церковь может существовать, – пишет Петерсон, – лишь при условии, что пришествие Христа не будет неминуемо скорым, – иными словами, лишь в том случае, если конкретная эсхатология уничтожена, а на ее месте высится доктрина последних вещей» (Ibid. Р. 248).
Итак, истинным предметом спора является не столько допустимость или, напротив, немыслимость политической теологии, сколько природа и суть katechon – власти, которая замедляет и упраздняет «конкретную эсхатологию». Из этого следует, что в конечном счете для каждой из них принципиальное значение имеет нейтрализация философии истории, ориентированной на спасение. В точке, в которой божественный проект ойкономии достиг своего завершения через пришествие Христа, произвелось событие (несостоявшееся обращение евреев, христианская империя), которое наделено властью приостановить эсхатон. Вытеснение конкретной эсхатологии превращает историческое время во время приостановленное, где всякая диалектика прекращена, а Великий Инквизитор бдит, чтобы парусия21 не произвелась в истории. Постичь смысл спора между Петерсоном и Шмиттом будет означать, таким образом, понять теологию истории, к которой они более или менее скрыто отсылают.
ℵ Две предпосылки, которыми Петерсон обосновывает существование Церкви (несостоявшееся обращение евреев и запаздывание парусии), внутренним образом связаны, и именно эта связь определяет специфику особого католического антисемитизма, представителем которого является Петерсон. Существование Церкви основывается на выживании Синагоги; тем не менее, поскольку в конце концов «весь Израиль будет спасен» (Рим. 11:26), а Церковь должна прекратить свое существование в Царстве (работу «Die Kirsche» открывает цитата иронического dictum22 Луази: «Jésus annonçait le royaume, et c'est l'Église qui est venue»23), Израиль также должен будет исчезнуть. Если отсутствует понимание этой скрытой связи между двумя предпосылками, не будет ясен и подлинный смысл прекращения работы «эсхатологического бюро», о котором еще в 1925 году говорил Трëльч («эсхатологическое бюро в настоящее время практически прекратило свою деятельность, ибо идеи, составляющие его фундамент, утратили свои корни»: Troeltsch. Р. 36). Так как оно повлекло бы за собой радикальное переосмысление связи между Церковью и Израилем, возобновление работы эсхатологического бюро представляет собой щекотливую проблему, и неудивительно, что такому мыслителю, как Беньямин, который находился на уникальном в своем роде перепутье между христианством и иудаизмом, не понадобилось ждать Мольтмана и Додда, чтобы безоговорочно запустить этот процесс, и что он все же предпочел вести речь о мессианстве, а не об эсхатологии.
1.5. Петерсон открывает свое рассуждение цитатой гомеровского стиха (Ил., 2, 204), которым завершается Λ книга «Метафизики» – «трактата, который обычно называют теологией Аристотеля» (Peterson 1. Р. 25): «Сущее не желает быть плохо управляемым: „Нет в многовластии блага, да будет единый властитель“24». По мысли Петерсона, в основе этого высказывания лежит критика платоновского дуализма, и в особенности – теории Cпевсиппа о множественности начал, вопреки которой Аристотель стремится показать, что природа не состоит, подобно дурной трагедии, из серии эпизодов, а имеет под собой единое начало.
Несмотря на то что термин «монархия» еще не звучит у Аристотеля в этом контексте, необходимо все же подчеркнуть, что сама идея уже присутствует здесь – в той самой семантической двойственности, согласно которой в божественной монархии единая власть (mia archē) единого высшего начала совпадает с мощью единого высшего носителя этой власти (archōn). [Ibid.]
Tаким образом Петерсон указывает на то, что теологическая парадигма аристотелевского неподвижного двигателя представляет собой своего рода архетип последующих теолого-политических обоснований монархической власти в иудейском и христианском ареале. Псевдоаристотелевский трактат «De mundo», который он рассматривает после приведенного рассуждения, составляет в этом смысле некую связку между классической политикой и иудаистской концепцией божественной монархии. Если у Аристотеля Бог является трансцендентным началом всякого движения, руководящим миром подобно тому, как стратег ведет свою армию, – в этом трактате монарх, запершись в покоях своего дворца, приводит мир в движение словно кукловод, заставляющий своих кукол двигаться посредством нитей.
Здесь образ божественной монархии обусловлен не столько проблемой наличия единого или нескольких начал, сколько вопросом о том, причастен ли Бог к силам, которые действуют в космосе. Автор хочет сказать: Бог является предпосылкой того, чтобы власть […] действовала в космосе, но именно поэтому он сам не являет собой силу (dynamis). [Ibid. Р. 27]
Цитируя излюбленный лозунг Шмитта, Петерсон передает смысл этого образа божественной монархии в формуле «Le roi règne, mais il ne gouverne pas»25 (Ibid.).
1 Мы называем божественной экономикой администрирование или управление всем сущим, которое Господь применяет с самого сотворения мира до окончательного свершения времен во славу Своего имени и во спасение людей (лат.).