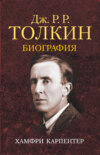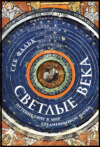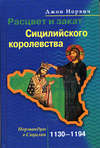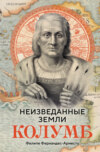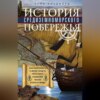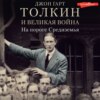Kitobni o'qish: «Толкин и Великая война. На пороге Средиземья»
Посвящается памяти:
Джона Рональда Руэла Толкина, 1892–1973
Кристофера Льюка Уайзмена, 1893–1987
Роберта Квилтера Гилсона, 1893–1916
Джеффри Бейча Смита, 1894–1916
ЧКБО
John GARTH
TOLKIEN AND THE GREAT WAR
The Threshold of Middle-earth
Originally published in the English language by HarperCollins Publishers Ltd
Печатается с разрешения издательства HarperCollins Publishers и литературного агентства Andrew Nurnberg
Редакторы и консультанты перевода: М. Артамонова, К. Пирожков, И. Хазанов
© John Garth, 2003, 2011, 2022
© С. Лихачева, перевод на русский язык, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Хронология
Толкин на Сомме, 1916
6 июня Толкин прибывает во Францию
28 июня Толкин прибывает в 11-й батальон Ланкаширских фузилёров
1 июля Начало битвы на Сомме
3 июля Толкин оказывается на передовой
6–8 июля В Бузенкуре с Дж. Б. Смитом
14–16 июля Толкин участвует в штурме Овиллера
17 июля Толкин узнает о гибели Роба Гилсона
21 июля Толкин становится батальонным офицером связи 24–30 июля Траншеи под Ошонвиллером
7–10 августа Траншеи к востоку от Коленкама 16–23 августа Инструктаж офицеров связи, Ашё
22 августа Толкин в последний раз видится со Смитом
24–26 августа Траншеи, Тьепвальский лес
28 августа – 1 сентября Траншеи к востоку от Лейпцигского выступа
1–5 сентября Траншеи на запасных позициях под Овиллером
12–24 сентября Учения, Франквиль
27–29 сентября Бой в Тьепвальском лесу
6–12 октября Батальонный КП, ферма Муке
13–16 октября КП, Цоллернский редут
17–20 октября Овиллерский пост и Гессенская траншея
21–22 октября Захват траншеи «Регина»
27 октября В Бовале Толкин подает рапорт о болезни
28 октября Толкин покидает свой батальон
29 октября – 7 ноября В госпитале, Ле-Туке
8 ноября Толкин возвращается в Англию на корабле «Астуриас»

Тылы Соммы

ЧКБО на Сомме
Предисловие
Это биографическое исследование родилось из одного-единственного наблюдения: как странно, что Дж. Р. Р. Толкин приступил к созданию своей грандиозной мифологии в самый разгар Первой мировой войны, этого «кризиса разочарования», сформировавшего современную эпоху.
В книге рассказывается о жизни Толкина и о его творческих поисках в 1914–1918 годы: о самых ранних экскурсах в только что придуманный «эльфийский» язык на последнем году обучения в Оксфорде, о новых горизонтах, открывшихся в ходе изнурительной армейской подготовки, об ужасах службы батальонным офицером связи на Сомме, и вплоть до того периода, когда Толкин, будучи хронически болен, в течение двух лет охранял морские рубежи Британии и записывал первые сказания своего легендариума.
Выходя далеко за пределы чисто военных аспектов, я попытался очертить всю глубину и обширность интересов и источников вдохновения Толкина. Рост его мифологии рассматривается начиная с самых первых лингвистических и поэтических «зерен» и до раннего расцвета в «Книге утраченных сказаний», предшествующей «Сильмариллиону»: она изначально задумывалась как подборка давно позабытых сказаний о древнем мире, представленном сквозь призму восприятия эльфов. В придачу к критическому разбору этого первого «захода» в мир, который Толкин впоследствии стал называть Средиземьем, я комментирую многие его ранние стихотворения, одно из которых («Одинокий остров») здесь публикуется впервые с тех пор, как увидело свет в 1920-х годах в составе малоформатной книжицы, давным-давно распроданной. Надеюсь, мне удалось подойти к ранней поэзии и прозе Толкина со всей серьезностью, как они того заслуживают: не как к юношеским пробам пера, но как к ви́дению уникального писателя в молодые годы – к ви́дению, уже широкоохватному по масштабности и значимому по тематике, однако ж, что характерно, живому, изобилующему подробностями, наполненному глубоким смыслом.
Одна из моих целей состояла в том, чтобы рассмотреть творческие поиски Толкина в контексте международного конфликта и сопутствующих пертурбаций в культурной жизни. Мне немало помогло, во-первых, снятие грифа секретности с военных досье офицеров Британской армии времен Великой войны; во-вторых, любезное разрешение Tolkien Estate изучить документы военных лет, сохраненные самим Толкином, и уникальные, берущие за душу письма ЧКБО – группы недавних школьных друзей, которые мечтали о славе, но были обречены трагедией эпохи на тяжкие лишения и горе; в-третьих, доброта семьи близкого друга Толкина, Роба Гилсона, предоставившей мне неограниченный доступ ко всем его бумагам. Тесно связанные между собою истории Гилсона, Джеффри Бейча Смита, Кристофера Уайзмена и Толкина – их общее или частично совпадающее ви́дение и даже разногласия между ними, зачастую весьма бурные, – все это, как мне кажется, немало способствует пониманию мотивов и устремлений Толкина как писателя.
И хотя Толкин часто писал о своем собственном военном опыте сыновьям Майклу и Кристоферу, когда те, в свою очередь, воевали во Второй мировой войне, он не оставил ни автобиографии, ни мемуаров. Среди его документов военных лет есть краткий дневник, но в нем содержится разве что последовательный перечень мест дислокации Толкина в ходе боевой службы во Франции. Однако о битве на Сомме доступно такое количество опубликованной и архивной информации, что я смог воссоздать подробную картину месяцев, проведенных Толкином во Франции, вплоть до сцен и событий по пути передвижения Толкина и его батальона по траншеям в конкретные дни.
Здесь следует отметить, что, хотя были опубликованы подробные, исчерпывающие обзоры первоисточников касательно батальонов Смита и Гилсона (Майклом Стедманом и Альфредом Пикоком, соответственно), в отношении батальона Толкина такого обобщающего исследования так и не появилось за пятьдесят с лишним лет; и никто, как мне кажется, не использовал сопоставимого количества свидетельств очевидцев. Таким образом, эта книга оказывается уникальным современным исследованием о действиях 11-го батальона Ланкаширских фузилёров на Сомме. Однако, поскольку мой рассказ посвящен в первую очередь не военным материалам, я постарался не перегружать его названиями траншей и прочих утраченных ориентиров (тем более что названия эти зачастую существуют в различных вариантах – на французском и в двух британских разновидностях, официальной и разговорной), координатами по карте и подробностями дислокаций дивизий и бригад.
Феноменальный мировой интерес к Толкину сам по себе уже является достаточным основанием для такого исследования, но я надеюсь, что оно окажется небесполезным и для тех, кому интересны живописания мифологических войн от древнего Белерианда до земель Руна и Харада, и для тех, кто, подобно мне, считает, что Великая война сыграла ключевую роль в созидании Средиземья.
В ходе моих изысканий возникновение этой вымышленной версии нашего собственного древнего мира в разгар Первой мировой войны, при всей его уникальности, перестало казаться таким уж странным. Одним словом, я считаю, что, создавая свою мифологию, Толкин вынес из руин истории много такого, что ценно и по сей день, но не просто сохранил и сберег традиции Фаэри: он их переосмыслил и вдохнул в них новую жизнь для читателей современной эпохи.
Однако биографическая составляющая этой книги настолько разрослась, что в конце концов я счел за лучшее ограничить мои комментарии касательно возможной взаимосвязи между жизнью и книгами лишь несколькими замечаниями и суммировать свою аргументацию в «Постскриптуме». Прочитав рассказ об участии Толкина в Великой войне, те, кто уже знакомы с «Хоббитом» и «Властелином Колец» или «Сильмариллионом» и предшествующими ему текстами, смогут, если захотят, сделать свои собственные, более подробные выводы о том, как на эти сюжеты повлияла война.
Возможно, именно этого захотел бы Толкин, если бы, конечно, готов был одобрить биографические изыскания в том, что касается его жизни и работы. Несколько лет спустя после публикации «Властелина Колец» он написал в ответ на расспросы:
[Я] возражаю против современной тенденции в критике, с ее повышенным интересом к подробностям жизни авторов и художников. Эти подробности лишь отвлекают внимание от трудов автора… и в конце концов, как наблюдаешь то и дело, становятся главным объектом интереса. Но лишь ангел-хранитель или воистину Сам Господь в силах выявить истинные взаимосвязи между фактами личной жизни и сочинениями автора. Но никоим образом не сам автор (хотя он-то знает больше любого исследователя) и уж конечно не так называемые «психологи». [ «Письма», № 213]
Я не претендую на какую-то сверхъестественную способность прочесть мысли Толкина и не пытаюсь уложить его на кушетку в кабинете психиатра. Я не охотился за скандальными сенсациями, но неизменно сосредотачивался на тех событиях, которые, на мой взгляд, сыграли свою роль в становлении легендариума. Надеюсь, что мой рассказ о том, как одаренный богатым воображением гений пережил мировой катаклизм своего времени, прольет немного света на тайны его творчества.
На протяжении всей книги мнения, интерпретации, трактовки и толкования целиком и полностью принадлежат мне, а не представителям семьи Толкинов и не Tolkien Estate. Однако я благодарю их за разрешение воспроизвести материалы из личных архивов и опубликованных сочинений Дж. Р. Р. Толкина.
За время работы над этой книгой накопились и другие огромные долги благодарности. Прежде всего, я должен сказать спасибо Дугласу А. Андерсону, Дэвиду Брону и Эндрю Палмеру за советы и помощь, выходящие далеко за рамки долга и дружбы. Без их содействия, а также без поддержки Карла Ф. Хостеттера и Чарльза Ноуда эта книга никогда бы не увидела свет. Отдельно хотелось бы выразить мою глубочайшую признательность Кристоферу Толкину за то, с какой щедростью он не только предоставлял мне доступ к личным архивам своего отца, но и уделял немало своего собственного времени; его меткие замечания спасли меня от множества промахов и помогли придать четкую форму книге «Толкин и Великая война». Хочу поблагодарить Джулию Маргреттс и Франсис Харпер, любезно предоставивших мне письма и фотографии Р.Кв. Гилсона. За неизменную готовность отвечать на мои вопросы о Кристофере Уайзмене и за разрешение цитировать его письма благодарю его вдову Патрицию и ее дочь, Сьюзан Вуд.
Дэвид Даган, Верлин Флигер, Уэйн Г. Хэммонд, Джон Д. Рейтлифф, Кристина Скалл и Том Шиппи поделились со мною своими профессиональными познаниями и представлениями касательно разнообразных аспектов жизни и работы Толкина; критическое исследование Т. Шиппи «Дорога в Средиземье» помогло мне глубже понять труды Толкина. Если бы не содействие Кристофера Гилсона, Ардена Р. Смита, Билла Уэлдена и Патрика Уинна, мои рассуждения на лингвистические темы обернулись бы полным фиаско. Фил Керм, Майкл Стедман, Фил Рассел, Терри Картер, Том Морган, Альфред Пикок и Пол Рид помогли мне как следует разобраться в том, какую роль сыграла армия Китченера в битве на Сомме. Следует также поблагодарить всех тех, кто находил время, чтобы отвечать на мои бесконечные вопросы, включая Роберта Арнотта, преподобного Роджера Беллами, Мэтта Блессинга, Энтони Бернетт-Брауна, Хамфри Карпентера, Питера Кука, Майкла Драута, Сирила Данна, Пола Хайтера, Брайана Сибли, Грэхема Тайяра и Тимоти Траута.
Разумеется, никто из вышеперечисленных не несет ответственности за какие бы то ни было фактические ошибки либо неверные интерпретации, если таковые остались.
За помощь в работе с архивами мне хотелось бы поблагодарить Лорис Топлифф и Джульет Чэдвик из Эксетер-колледжа (Оксфорд); Кристин Батлер из Корпус-Кристи-колледжа (Оксфорд), Керри Йорк из школы короля Эдуарда (Бирмингем), доктора Питера Лиддла из Брадертонской библиотеки (Лидский университет); Тони Спрасона из музея Ланкаширских фузилёров (Бери); Кэтрин Уолкер из Эдинбургского университета Нейпира; равно как и сотрудников Государственного архива (Кью), отделов документации, печатных книг и фотографий Имперского военного музея (Ламбет) и читального зала архивов нового времени в Бодлеанской библиотеке (Оксфорд) и Центральной библиотеки Халла. Архивные материалы и фотографии воспроизводятся с разрешения попечителей школ короля Эдуарда VI и ректора и членов совета Эксетер-колледжа (Оксфорд). Я благодарен Синтии Суоллоу (урожд. Фергюсон) за разрешение воспользоваться материалами из личного архива Лайонела Фергюсона; миссис Т. Х. А. Поттс и покойному мистеру Т. Х. А. Поттсу за разрешение цитировать личные документы Г. А. Поттса; миссис С. Дэвид за разрешение цитировать личные документы Ч. Х. Дэвида. Были предприняты все усилия для того, чтобы связаться с правообладателями прочих документов, цитаты из которых я привожу.
За дотошную издательскую подготовку рукописи, терпение в отношении моих стилистических недочетов и удивительную силу духа я должен поблагодарить Майкла Кокса. Также говорю спасибо Клэю Харперу, Крису Смиту, Меррил Фьютерман и Иану Притчарду за помощь и советы в процессе публикации; моей кузине Джудит Мерфи и ее мужу Полу за их гостеприимство во время моей научной поездки в музей Ланкаширских фузилёров в Бери, Ланкашир; а также редакции «Ивнинг стандард» – за то, что позволили мне взять академический отпуск для завершения книги.
На всех этапах работы мои коллеги из газетной редакции помогали мне правильно оценить общую картину. Рут Бейли, Илириана Барилева, Гэри Бриттон, Патрик Карри, Джейми Маклин, Тед Нэсмит, Тревор Рейнольдс, Ди Рудебек, Клер Стратерс, Дэн Тиммонз, Присцилла Толкин, Э. Н. Уилсон, Ричард Янгер и в особенности Венди Хилл – все они поддерживали и ободряли меня в критические моменты, когда я особенно в этом нуждался. И, наконец, мне хотелось бы поблагодарить мою семью – моих родителей Джин и Роя Гарт, моих сестер Лайзу и Сюзанну, моих племянников Симеона и Джексона и племянницу Джорджию – и извиниться перед ними за то, что на два года скрылся за горой бумаг1.
Комментарии в конце книги содержат информацию об источниках и объясняют мой выбор в случаях спорной хронологии или в других вопросах. Чтобы не загромождать повествование номерами сносок, каждое примечание начинается с отсылки на номер страницы и с фразы, указывающей, к какой части текста оно относится. В начале книги приводится краткая датировка событий; читателям, которым нужна хронология более подробная (в нескольких датах слегка расходящаяся с моей), рекомендую обратиться к книге Кристины Скалл и Уэйна Г. Хэммонда «Дж. Р. Р. Толкин. Справочник и путеводитель» (Christina Scull and Wayne G. Hammond. J. R. R. Tolkien Companion and Guide, HarperCollins, 2006).
Новые добавления, поправки, а также развернутый рассказ о студенческих годах Толкина в Эксетер-колледже см. на моем сайте: www.johngarth.co.uk.
С. Лихачева
Часть I
Бессмертная четверка
Пролог
16 декабря, зима в самом разгаре. Порывы пронизывающего ветра налетают с боков, хлещут атакующих в лицо, пока те пытаются преодолеть жалкую сотню ярдов по жидкой грязи. В беспорядочной, необученной толпе многие – совсем зеленые новички. Как только этим юнцам удается скоординировать усилия, немногочисленная старая гвардия бросается в наступление – со всей решимостью и со знанием дела. Но по большей части здесь царит хаос. Снова и снова противник отбрасывает атакующих назад и наносит сокрушительные контрудары, так что всей стойкости, ловкости и опыта «старичков» едва хватает, чтобы сдержать натиск. Капитан, Дж. Р. Р. Толкин, пытается привлечь на помощь собственный опыт; но что до тех, кто под его началом, – по словам очевидца, «их песенка спета»
На дворе – 1913 год: до Великой войны еще восемь месяцев, это просто игра. Толкин и его товарищи по команде – пока еще не солдаты; это оксбриджские студенты2 вернулись в Бирмингем на Рождество. Сегодня, по ежегодной традиции, они вышли на регбийный матч против основного состава своей прежней школы.
Толкину еще не исполнилось двадцати двух; в нем нет ничего от профессора, знакомого нам по обложкам биографий – в твидовом костюме, с добрыми морщинками и неизменной трубочкой. Джон Рональд (как зовут его старые приятели) на поле для регби совсем иной – худощавый, поджарый; в те времена, когда он играл нападающим в основном составе команды школы короля Эдуарда, он прославился решимостью и напористостью. Сейчас он играет в Оксфорде за Эксетер-колледж.
Его память – настоящая кладовая образов: тут и воспоминания о паническом бегстве от ядовитого паука, о мельнике, смахивающем на великана-людоеда, о зеленой долине в горах; тут и видения драконов, и кошмарной волны, воздвигшейся над зелеными полями, а может статься, уже и благословенной земли за морем. Однако кладовая – это еще не мастерская; Средиземья Толкин еще не создал. Но в этом году, весьма посредственно сдав экзамены по классическим дисциплинам, он сделал судьбоносный шаг ему навстречу. Он распрощался с латынью и греческим и теперь, взявшись за Чосера и «Беовульфа», дотошно изучает происхождение и развитие английского языка. Он верен своей первой любви к северным языкам и литературам – любви, которая станет воспламенять его воображение на протяжении всей жизни. Первый проблеск Средиземья уже не за горами. Далеко, за гранью пока что не придуманного будущего, во внутреннем дворе осажденного города поет петух и в холмах громогласно отвечают рога.
Однако сегодня на поле для регби Толкин не в лучшей форме. Вчера ему полагалось открыть дебаты выпускников утверждением о том, что мир становится слишком цивилизован, но он внезапно прихворнул и вынужден был отказаться от участия.
Его былые товарищи по команде из основного состава – те, что сегодня вышли на поле, – окончив школу, по большей части регби забросили. Кристофер Уайзмен, высокий, похожий на льва, с грудью колесом, частенько дрался за мяч бок о бок с Толкином; но теперь, в кембриджском Питерхаус-колледже, ему пришлось отказаться от регби и гребли – давняя проблема с сердцем вновь дала о себе знать. Сегодня он поставлен трехчетвертным – на менее агрессивной позиции, в глубине поля, рядом с еще одним «ветераном», Сидни Бэрроуклофом. В команде есть и такие, кто до основного состава никогда не дотягивал и в матчах с командами других школ не участвовал, но в школе короля Эдуарда в регби играли все. Что до внутри школьных матчей, школа делилась на четыре группы, или «дома», и большинство тех, кто играет в одной команде с Толкином в этот декабрьский день, некогда принадлежали к его же дому. По правде сказать, их «командный дух» восходит не столько к полю для регби, сколько к старой школьной библиотеке.
Толкин познакомился с Кристофером Уайзменом в 1905 году. В свои двенадцать Уайзмен уже был талантливым музыкантом-любителем; одно из его сочинений примерно того времени впоследствии вошло в «Методистский сборник церковных гимнов». Его отец, преподобный Фредерик Льюк Уайзмен, возглавлявший Бирмингемскую центральную миссию уэслианских методистов3, воспитал его на Генделе, а его мать Элси привила ему любовь к Брамсу и Шуману; особенно же ему нравились немецкие хоралы. Но с Толкином он подружился благодаря регби. Оба играли в алых цветах дома Межерса (названного так в честь учителя, стоящего во главе дома) и яростно соперничали с мальчиками в зеленом из дома Ричардса. Позже оба боролись за мяч в основном составе школьной сборной. А еще они обрели друг в друге родственную душу. Уайзмен, годом младше Толкина, в интеллектуальном плане был ему ровней – и в том, что касается академических успехов, буквально наступал ему на пятки. Оба жили в Эджбастоне, пригороде Бирмингема: Кристофер – на Гринфилд-кресент, а Джон Рональд не так давно поселился через одну улицу от него, на Хайфилд-роуд. Они частенько ходили вместе в школу и обратно по Броуд-стрит и Харборн-роуд и увлеченно спорили, позабыв обо всем на свете: Уайзмен был либералом по политическим взглядам, уэслианским методистом по религиозным убеждениям и музыкантом по призванию; Толкин, убежденный консерватор и католик, был (по мнению Уайзмена) напрочь лишен музыкального слуха. Неожиданное товарищество, что и говорить, но тем более ценное для обоих. Редкая дружба выдержала бы споры столь яростные, но мальчики обнаружили, что в бурных диспутах тесная связь между ними лишь крепнет. Промеж себя они называли друг друга Великими Братьями-Близнецами. Эта духовная близость не распространялась даже на Винсента Трау та, их лучшего друга как на поле для регби, так и за его пределами.
В течение последнего триместра в школе короля Эдуарда Толкин ненадолго сделался библиотекарем. К управлению своей маленькой империей он привлек и Уайзмена, а тот настоял, чтобы к ним присоединился и Траут в качестве помощника библиотекаря. К тому времени место в Оксфорде Толкину было обеспечено, и он изрядно расслабился. Вскоре в библиотеке уже царило неуместное оживление – впрочем, кружок, собирающийся там, мог себе позволить испытывать терпение директора, потому что одним из самых активных участников был директорский сын, Роберт Квилтер Гилсон.
Все друзья Толкина были способны на интеллектуальную серьезность. Они верховодили на всех школьных дебатах и в театральных постановках, они составляли костяк Литературного общества, на заседаниях которого Толкин зачитывал исландские саги, Уайзмен рассуждал об историографии, Гилсон с восторгом разглагольствовал об искусствоведе Джоне Рескине, а Траут однажды сделал примечательный доклад, который запомнился как «фактически последнее слово» о поэтах-романтиках. Благодаря своему энтузиазму эта маленькая вдохновенная компания вырвала контроль над школьной жизнью из рук тех мальчиков, которые распоряжались бы ею в противном случае. В поделенном на два лагеря мире школьной политики это был триумф дома Межерса над домом Ричардса, алого над зеленым, но для Толкина и его друзей это означало моральную победу над циниками, которые, по выражению Уайзмена, над всем глумились, но ни от чего не теряли самообладания.
Однако главная цель библиотекарей была по большей части не столь возвышенной; они лишь мешали друг другу работать, немилосердно смеша друг друга. Летом 1911 года, самым жарким за последние сорок лет, в Британии взбурлило забастовочное движение, и (по словам одного историка) «изнемогающие от жары жители городов психологической нормальностью похвастаться не могли». Библиотечная каморка стала очагом интеллектуальных прожектов, абсурдистского юмора и всевозможных дурачеств. В то время как грозная длань экзаменов уже простерлась над большинством их однокашников, библиотекари втихаря кипятили чаек на газовой горелке и по установившейся традиции каждый приносил что-нибудь лакомое для тайных пиршеств. Вскорости «Чайный клуб» начал собираться в магазине «Бэрроу» после уроков, в результате чего возникло второе, альтернативное название: Барровианское общество.
В декабре 1913 года Толкин, хотя он уже и проучился в Оксфорде более двух лет, по-прежнему является членом «Чайного клуба» и «Барровианского общества», известных ныне под аббревиатурой «ЧКБО». Компания по-прежнему встречается на «Барровианских» посиделках и по-прежнему очень даже не прочь подурачиться. Состав клуба постоянно обновляется, но ядром его неизменно остаются Кристофер Уайзмен и Роб Гилсон заодно с Джеффри Бейчем Смитом – этот адепт присоединился позже прочих. На поле для регби сегодня ЧКБО представляют все четверо, а также и Сидни Бэрроуклоф, играющий трехчетвертным на пару с Уайзменом. Как Толкину не хватает Винсента Траута – превосходного замыкающего! Первая потеря в рядах ЧКБО: Траут умер почти два года назад после затяжной болезни.
Сегодня оксфордцами и кембриджцами движет не только спортивный азарт, но и желание пообщаться со старыми школьными друзьями: и вчерашние дебаты, и сегодняшний матч, и торжественный ужин вечером входят в программу масштабной встречи выпускников. Именно это, а вовсе не регби само по себе, сподвигает компанейского Роба Гилсона поучаствовать в схватке (он же в последний момент подменил захворавшего Толкина в дебатах). Его страсть – это карандаш, грифельный либо угольный, а вовсе не грязь и пот. Сложно сказать, какая черта его внешности наиболее красноречиво свидетельствует о его артистической натуре: чувственные, почти прерафаэлитские губы или невозмутимо-оценивающий взгляд. Его сердце отдано скульпторам флорентийского Ренессанса: он способен увлеченно и доходчиво рассказывать о Брунеллески, Лоренцо Гиберти, Донателло и Луке делла Роббиа. Как и Джон Рональд, Роб вечно что-то рисует или пишет красками. Он провозгласил своим кредо запечатление правды жизни, а не только удовлетворение эстетических потребностей (хотя кто-то из гостей сардонически заметил, что в его комнатах в кембриджском Тринити-колледже только один стул удобный, а все остальные «высокохудожественные»). Окончив школу, он объехал Францию и Италию, зарисовывая церкви. Он учится на классическом отделении, но мечтает стать архитектором и после окончания университета в 1915 году рассчитывает в течение нескольких лет осваивать избранную профессию.
Дж. Б. Смит, который сражается за мяч вместе с Гилсоном, считает себя поэтом. Он очень начитан; он жадно поглощает самые разные книги – его литературные пристрастия варьируются от У. Б. Йейтса4 до английских народных баллад, от георгианцев5 до валлийского «Мабиногиона». И хотя прежде он принадлежал к дому Ричардса, его неудержимо тянуло к ЧКБО; теперь, когда Смит начал изучать историю в оксфордском Корпус-Кристи-колледже, в нескольких минутах ходьбы от Эксетера, они с Толкином сблизились еще больше. «Дж. Б.С.» – остроумный собеседник и страшно гордится тем, что его инициалы – такие же, как у Джорджа Бернарда Шоу6, величайшего полемиста века. И хотя Смит происходит из семьи торговцев и фермеров, он уже примеривается, каким тематическим историческим исследованием займется после получения диплома. А вот регби никогда его не привлекало.
А еще в схватке, вопреки собственному здравому смыслу, участвует Т. К. Барнзли по прозвищу «Тминный Кексик»7 – уверенный в себе, беззаботный юноша, который нередко верховодит в ЧКБО, всех ослепляя своим искрометным остроумием. Кексик любит щеголять жаргонными фразочками, как, например, «высший балл!» или «я сдрейфил», и носиться сломя голову по Кембриджу на мотоцикле, закрывая глаза на то, что такое поведение едва ли приличествует будущему уэслианскому священнику. Они со Смитом согласились войти в команду Толкина только при условии, что в ней же окажется и Роб Гилсон. Сомнительный комплимент, на взгляд Роба: иначе говоря, эти двое знают, что Роб играет еще хуже них.
Так что нападающих толкиновской команды фатально подводит неопытность Гилсона, Смита и Т. К. Барнзли. Основное бремя борьбы приходится на трехчетвертных защитников, включая «старичков» Уайзмена и Бэрроуклофа. Апатичный Бэрроуклоф сегодня сам на себя не похож: он вихрем проносится через половину поля сквозь вражеские ряды и засчитывает одну попытку, затем еще одну. Но с самого начала, после первой попытки, натиск их юных противников не ослабевает, и лишь благодаря проворству и юркости Бэрроуклофа и Уайзмена разрыв в счете удается подсократить. В перерыве между таймами счет – 11:5 в пользу основного состава школы. Команды меняются местами; теперь ветер благоприятствует Бэрроуклофу: ему засчитывают вторую попытку, и полузащитник схватки снова совершает реализацию. Однако на последних минутах школа увеличивает счет до 14:10 в свою пользу. Дух товарищества, безусловно, дело хорошее, но изрядно потрепанная команда Толкина осталась в проигрыше.
Зато сегодня их ждет ужин в компании старых друзей, а члены ЧКБО не склонны воспринимать слишком серьезно что бы то ни было. Это счастливые деньки, и тем более счастливые, что кажутся чем-то само собою разумеющимся. Покидая школу короля Эдуарда в 1911 году, Толкин с ностальгией писал в школьной «Хронике»: «Дорога была неплоха – местами, конечно, неровна и ухабиста, но говорят, что дальше будет еще тяжелее…»8
Никто даже представить себе не мог, насколько тяжелы окажутся грядущие годы и на какую жуткую бойню шагает это поколение. Даже теперь, на исходе 1913 года, невзирая на растущие признаки того, что «слишком цивилизованному» миру грозит война, невозможно предвидеть, когда и как она разразится. Не пройдет и четырех лет, как в пожаре войны из пятнадцати игроков в составе команды Толкина четверо будут ранены, а четверо погибнут – в том числе Т. К. Барнзли, Дж. Б. Смит и Роб Гилсон.
На каждые восемь человек, мобилизованных в Британии в ходе Первой мировой войны, приходится один погибший. Толкиновская команда понесла потери в два раза более тяжелые, и однако ж они сопоставимы с долей смертей среди выпускников школы короля Эдуарда и среди бывших учеников частных школ по всей Великобритании – примерно один из пяти. Что соответствует статистике по их ровесникам-военнослужащим, бывшим студентам Оксбриджа, подавляющее большинство которых становились младшими офицерами и должны были руководить боевыми операциями и возглавлять атаки. Отдавать должное Оксфорду и Кембриджу, да и социальным элитам в целом, в наши дни уже не модно, но правду не оспоришь – Великая война выкосила больше молодых людей того же возраста и статуса, что и Толкин, нежели в любой другой социальной группе Британии. Современники говорили о «потерянном поколении». «К 1918 году, – писал Толкин полвека спустя в предисловии ко второму изданию “Властелина Колец”, – все мои близкие друзья, за исключением одного, были мертвы».
Переводчик выражает глубокую благодарность всем, кто принимал участие в работе над книгой: своему редактору М. Артамоновой за бесценную помощь; А. Белкиной за консультации по медицинской тематике; И. Хазанову за консультации по военно-исторической тематике и совместную работу над особо сложными фрагментами текста, а также за неизменную поддержку и содействие в ходе подготовки данного издания; К. Пирожкову за ценные сведения по военной истории и фотографию значка Ланкаширских фузилёров для обложки; К. Пирожкову и С. Белякову за содействие в вычитке готового текста; Н. Семеновой за бесконечное терпение в работе над версткой и помощь с указателем, Ирине Майгуровой за помощь в работе над текстом. Постраничные примечания, помеченные «Примеч. ред.», написаны редакторской коллегией: И. Хазановым, К. Пирожковым и М. Артамоновой.