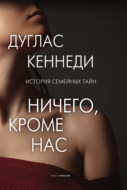Kitobni o'qish: «Ничего, кроме нас»
Douglas Kennedy
The great wide open
Copyright © 2019 by Douglas Kennedy
© Мигунова Е. Я., перевод на русский язык, 2021
© Издание на русском языке. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2022
© Оформление. Т8 Издательские технологии, 2022
В оформлении обложки использованы материалы по лицензии агентства Shutterstock, Inc.
* * *
Непревзойденной Амелии Кеннеди
Человек – не то, что он о себе думает, а то, что он о себе скрывает.
Андре Мальро
Тысячу раз ты ходил этими улицами и все равно попадаешь сюда. Ни о чем не жалей, ни об одном из тех пустых дней, о которых хотел бы забыть, когда огни каруселей были единственными звездами, в которые ты верил, любя их за никчемность, не желая быть спасенным.
Ты доскакал до этого места верхом на своих ошибках – ты мрачен и хмур, но спокоен, как дом, из верхнего окна которого выбросили телевизор. Безобиден, как сломанный топор. Пуст – никаких ожиданий. Расслабься. Не трудись вспоминать.
Давай остановимся здесь, на углу под светящейся вывеской, и будем смотреть, как мимо идут все люди.
Дорианн Ло, «Антиоплакивание»
Все семьи суть тайные общества. Мирки, состоящие из интриг и внутренних войн, живущие по своим собственным правилам и установкам, со своими границами и рубежами. Правила семьи часто кажутся лишенными смысла тем, кто находится вне ее пределов. Мы ценим семью более, чем любую другую ячейку общества, так как она является важнейшим краеугольным камнем социального устройства. Когда внешний мир оказывается жестоким и неумолимым, когда посторонние, с которыми нам приходится столкнуться, разочаровывают или травмируют нас, именно семья должна стать тем убежищем, к которому нас тянет, будто магнитом. Хранилищем уюта и радости.
Учитывая то, что мы преклоняемся перед этой важнейшей базовой концепцией мироустройства, идеализируем ее возможности, возлагаем на нее роль единственного места, куда мы можем устремиться в поисках безусловной любви, стоит ли удивляться, если подлинная реальность семьи оказывается шаткой и дестабилизирующей? Все изъяны и дефекты человеческой природы стократно усиливаются в наших ближайших родственниках. Потому что семья – то самое место, откуда берут начало все наши обиды на мир. Потому что зачастую семья разрушительна. Нередко семья становится источником несвободы, ограничений и растущего недовольства. Расти в семье – значит обнаружить: любой ее член может быть склонен к вероломству; вопреки всем заявлениям о том, что мы среди близких, понимающих нас, как никто другой, и всегда готовых броситься на выручку, все мы что-то друг от друга скрываем.
Я дважды перечитала последний абзац. Слова рикошетом отскакивали от сознания и вертелись в мозгу, словно вышедший из-под контроля бильярдный шар. Ну что за бурный каскад неутешительных истин! Я закурила новую сигарету – восьмая за сегодня, а на часах еще только 15:20. Скомкав лежащую на столе пустую пачку, я позвонила своей помощнице Черил и попросила ее спуститься в холл и купить в торговом автомате еще пачку «Вайсрой»: мне предстояло допоздна работать над рукописью. Прошлый вечер на никотиновом фронте выдался особо неумеренным, уж очень меня раздосадовало переизбрание второсортного актеришки на второй президентский срок. Вернувшись ночью из гостей (вечеринка в районе Грамерси-парка, в особняке эпохи Позолоченного века1), среди множества сообщений на автоответчике я обнаружила одно от Си Си Фаулера. Это глава издательства, в котором я работаю. И его сообщение навело меня на мысль, что он перебрал коктейлей.
Привет, Элис. Я тут подумал: нам поскорее нужна книга о Рейгане как игроке, радикально меняющем ситуацию на политическом поле, потому что он, похоже, станет – к худу ли, к добру ли – самым влиятельным президентом после Ф. Д. Рузвельта. Можем мы обсудить это после ланча в четверг?
Си Си всегда зорко следил за конъюнктурой на рынке. Но я не могла отогнать от себя назойливую мысль: кто будет покупать книгу о президенте, которого страна оставила у власти еще на один срок, да еще с таким триумфом? Вчера вечером он победил в сорока девяти из пятидесяти штатов, как бы объявив тем самым: в Америке середины восьмидесятых востребованы его сентиментальный патриотизм и трепотня о том, что выйти в плюс – вот главное. Нажав на телефоне кнопку срочной связи, я попросила Черил созвониться с ассистентом Си Си и перенести встречу на пятницу: «Ты же знаешь, в четверг я уеду пораньше».
Черил – человек, которому я доверяла полностью (а в издательстве, уж поверьте, люди, способные хранить секреты, такая же редкость, как довольный жизнью алкоголик), – знала, почему завтра я должна удрать с работы в час дня: мне предстояло свидание с братом. Сам по себе тот факт, что он сидит в федеральной тюрьме в часе езды к северу от Манхэттена, государственной тайной не являлся. Его арест и суд прогремели повсеместно как главные новости.
С тех пор как его посадили с месяц назад, я навещала брата еженедельно. А за несколько дней до выборов получила от него письмо. Он спрашивал, смогу ли я прийти в тюрьму на этой неделе, потому что «мне очень нужно с тобой увидеться и кое-что обсудить». Брат не уточнил, что это за «кое-что», зато сообщил, что в последние дни многое переосмыслил. Он еще употребил любопытный термин «оценка души». В его последних письмах стали появляться выражения, характерные для новообращенных. Возможно, я сужу слишком строго. Наверное, до сих пор никак не осознаю, что мой брат – уголовный преступник. Но, по-моему, история с совестью, как по волшебству проснувшейся в местах не столь отдаленных, сильно отдает приспособленчеством… тем более что обретение Бога в тюрьме стало, похоже, неотъемлемым атрибутом американских преступников.
Но, так или иначе, он мой брат. И, хотя наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны (поражаюсь, как может одна семья породить детей настолько разных во всем, что касается мыслей и чувств!), свойственная мне упрямая преданность заставляет меня ему помогать. Особенно если учесть, что семейная верность нередко опирается на чувство вины.
Позвонив в тюрьму, я записалась на посещение в четверг в 16:30. Как и раньше, служащий, с которым я говорила, напомнил, чтобы я взяла удостоверение личности с фотографией и предупредил, что меня могут подвергнуть личному досмотру. Далее он, как всегда, огласил список запрещенных предметов (огнестрельное и холодное оружие, лекарства, отпускаемые по рецепту, наркотические средства, порнография и опасное вещество, известное как жевательная резинка). На вопрос, понятно ли мне, что всё это проносить запрещено, я ответила:
– Это мой пятый визит, сэр. И я всегда соблюдаю правила.
– Да хоть двадцать пятый, мне все равно. Моя обязанность зачитать вам этот список. Это понятно?
– Да, сэр.
– До встречи в четверг, мисс Бернс.
В поезде, мчащемся на север по сонным пригородам Нью-Джерси, я продолжала корпеть над свежекупленной рукописью психоаналитика, профессора Гарвардской школы медицины на тему «Семья и вина». Тема, которая может коснуться практически любого думающего человека. Эта книга способна возглавить списки бестселлеров… при условии, что мне удастся обуздать доктора Гордона Джилкрайста, точнее, его тенденцию скатываться на зубодробительную мозгоправскую лексику.
Проекция2 – еще куда ни шло, с этим мы можем смириться, особенно пока речь идет о всяких милых чертах, унаследованных нами от дорогих мамочек и папочек. Но начните бить читателя по мозгам катексисом / декатексисом или парапраксисом Синьорелли, завлеките их в извилистые лабиринты контрфобического отношения и прочей терминологии, в которой без Оксфордского словаря английского языка не разберешься, и вы затерроризируете и подавите его личность, заставив ощутить свою неполноценность. Я уже говорила об этом с Гордоном, пытаясь убедить его в том, что он, если поубавит словесной эквилибристики, имеет все шансы стать автором самой популярной в следующем сезоне книги «Думаете, у вас проблемы?». Итак, моя красная ручка резво бегала по страницам, вымарывая огромные куски научной зауми, и вдруг я ощутила резкий укол объективной идентификации, наткнувшись на абзац, который начинался словами:
Все семьи суть тайные общества. Мирки, состоящие из интриг и внутренних войн, живущие по своим собственным правилам и установкам, со своими границами и рубежами. Правила семьи часто кажутся лишенными смысла тем, кто находится вне ее пределов…
Размышлял ли теперь мой брат о тайнах, которые так портили нашу семейную жизнь и создавали атмосферу скрытности, которая в конечном итоге и привела его в тюрьму? Ведь мы, люди – не просто суммарное проявление того, что нам приходится пережить, но еще и свидетельство того, как мы осмысляем все встреченное на жизненном пути. В безумную сложность выбора вторгается музыкальная тема случайности – и вот, приняв массу ошибочных и необдуманных решений и навредив себе, мы, бывает, переписываем сценарий, создавая тот, с которым можем жить.
– Имя и номер заключенного?
Искаженный голос доносится из небольшого динамика, впаянного в плексиглас у входа в федеральное исправительное учреждение в Отисвилле, штат Нью-Йорк. Ворота, на них колючая проволока. Бетонные стены. Заметны тени скрытых за ними жилых корпусов. Кроме этого да еще вывески, сообщающей, что это и в самом деле тюрьма, в облике этого места нет ничего особенно гнетущего. Если, конечно, вы не находитесь здесь в заключении, поскольку система уголовной юстиции постановила, что таким образом вам надлежит выплатить свой долг обществу. Я назвала имя брата. Держа наготове открытую записную книжку, прочитала и присвоенный ему здесь номер: «5007943NYS34».
– Кем приходитесь заключенному? – снова спросил голос.
– Сестрой.
Через минуту раздался характерный щелчок, и тяжелая армированная дверь открылась. Я вошла, прошла по короткому коридору без крыши, над головой только серое ноябрьское небо, справа и слева стены из шлакобетона, ведущие ко второму контрольно-пропускному пункту. Здесь мне предстояло предъявить удостоверение личности и ждать, пока из моих сумок все вытряхнут и проверят содержимое. Пришлось вытерпеть и обыск, проведенный женщиной в форме. Когда стало наконец ясно, что я не вооружена и не опасна, что две пачки «Орео», которые попросил принести брат, это действительно любимое школьниками печенье, а в банках арахисового масла не спрятаны бритвенные лезвия, меня проводили в комнату ожидания. Унылое помещение, выкрашенное характерной для государственной больницы зеленой краской, с серыми пластиковыми стульями, люминесцентными лампами, потрескавшимися потолочными плитками и истертым линолеумом. Даже несмотря на свои предыдущие посещения, я все равно нервничала, оказавшись здесь. Тюрьма есть тюрьма, даже если твоему брату в рамках процесса реабилитации здесь предлагаются на выбор уроки игры на пианино или испанского языка.
– Элис Бернс?
Меня выкликнули по имени – невысокий латиноамериканец в синей униформе служащего тюрьмы, которая явно была ему велика. Я встала. Подвергнув мои сумки повторной проверке, меня отвели в комнатушку с письменным столом и двумя стульями из нержавейки. Как же мне захотелось закурить прямо сейчас! Хоть бы сигарету-другую за пятьдесят минут, отведенные на свидание с братом, – и вся эта пытка стала бы куда более сносной.
Сев на жесткий, с прямой спинкой стул, я в ожидании заключенного номер 5007943NYS34 прикрыла глаза, чтобы немного передохнуть от всего этого казенного убожества.
– Привет, сестренка.
Я широко открыла глаза. Передо мной стоял брат, и он явно сбросил фунта три с нашей встречи на прошлой неделе. Я поднялась. Мы неловко обнялись, и я подивилась той пылкости, с которой Адам сдавил меня в объятиях, будто хотел передать какую-то духовную силу.
– Ничего себе, – пробормотала я.
– Пастор Уилли сказал, что я грандиозно обнимаюсь – он никогда ничего подобного не встречал.
– Я уверена, что уж кто-кто, а пастор Уилли разбирается во всех видах объятий.
– Ты вроде надо мной насмехаешься, сестренка?
– Вроде того. Почему ты так похудел?
– Зарядка. Правильное питание. Молитва.
– Молитва помогает сбросить вес?
– Если начнешь смотреть на калорийные продукты как на искушение дьявола…
Я подняла сумку со сладостями, которые принесла брату:
– Тогда зачем ты просил принести всю эту вредную еду?
– Немного побаловать себя раз в день – в этом нет ничего дурного.
– А съесть десять печений за раз – это, стало быть, сатанинский соблазн?
– И снова этот твой тон.
– Я ночью плохо спала. И все это для меня сплошной стресс.
– Так и должно быть, учитывая то, как плохо я себя вел. Я разрушил много жизней. И навлек позор на всех нас.
Я взмахнула рукой, как коп, регулирующий уличное движение:
– Хватит, ты уже достаточно передо мной извинялся.
– А пастор Уилли говорит, что до конца извиниться за прошлые грехи невозможно, всегда будет недостаточно. И единственный способ все загладить – это идти путем праведности и искупить вину за содеянное в прошлом.
– На мой взгляд, большой срок в тюрьме – вполне себе искупление. Ты во вторник голосовал?
– Мне нельзя. Один из многих недостатков заключения в том и состоит – ты лишаешься права голоса. Лишаешься права делать практически все.
Адам принялся расхаживать взад и вперед по узкой комнате – давняя привычка невротика, которую он подавлял годами, пока его не заключили в наручники и не провели под конвоем на глазах у собравшихся журналистов. Сейчас, глядя на него, я поняла горькую правду: какие бы он ни вел сейчас разговоры о вновь обретенной внутренней гармонии и искуплении, какой бы независимый вид ни напускал на себя во время оглашения приговора, как бы адвокат ни уверял, что через три года он выйдет из этого заведения общего режима, в душе моего братика царил прежний раздрай. Я подскочила к нему, обхватила двумя руками за плечи, отвела к стулу и посадила, а он только причитал тихонько:
– Прости меня, прости, мне так жаль…
Еще один побочный эффект стресса – необходимость снова и снова повторять одну и ту же фразу.
Я крепко сжала руки брата:
– Прекрати извиняться. Что сделано, то сделано. И я рада была услышать, как ты злишься.
– Но пастор Уилли говорит, что гнев ядовит. И пока я не научусь прощать…
– Пастор Уилли не потерял все. Пастора Уилли не заперли в тюрьме. И окружной прокурор не использовал пастора Уилли в своей политической игре, устроив публичную порку, так сказать, в назидание всем. Что, черт возьми, этот евангелист знает о твоем гневе?
– На прошлой неделе пастор Уилли сказал мне во время частной встречи, что ты – яркий пример «сестринской поддержки».
– Я буду тебе благодарна, если ты больше не станешь без конца поминать имя несчастного пастора Уилли. Понятно же, что я здесь ради тебя.
– Вот если бы и мой брат оказался так же милосерден.
Его брат! Мой второй брат. Сейчас он, запутавшись в трясине морального превосходства, пребывает в бегах. С нами общения не поддерживает.
– Его все это тоже не радует, уверяю тебя, – сказала я.
– Спасибо, что возишься со мной, а не списала со счетов как конченого, как сделал он.
– Ты никакой не конченый, – возразила я.
– Мама на той неделе то же самое сказала. Вы так до сих пор и не разговариваете?
– Я дверью не хлопала, но она продолжает меня винить…
– Я велел ей перестать это делать. Ты не виновата.
– В ее глазах всегда виновата я. Я всегда была для нее нежеланной дочерью, и она повторяла мне это не раз и не три.
– Нам всем необходимо исцеление.
– Ой, не начинай…
– Я знаю, по-твоему, все это напоминает слащавую мелодраму. Но пора уже всем нам быть честными друг с другом.
– С мамой это пройдет на ура. Но представь, что ты скажешь такое папе…
За этой моей репликой последовало долгое молчание. Брат уставился в пол. Невооруженным глазом было видно, до чего ему скверно. В конце концов он взял со стола пачку печенья, вскрыл и, схватив сразу три штуки, буквально проглотил их.
– Я давно собираюсь поговорить с отцом о тебе, – сказал он.
– Прости, что заговорила об этом.
– Не надо извиняться за то, что заговорила о папе. Но… – Адам заколебался было, но продолжил: – Сейчас мне нужно обсудить с тобой один факт, о котором я раньше никогда тебе не говорил.
– Не уверена, что именно сегодня я хочу услышать еще о каких-то фактах.
– Но есть кое-что, о чем мне необходимо сказать.
– Почему сейчас?
– Мне необходимо этим поделиться.
– Я так и слышу в этом «поделиться» голос пастора Уилли…
– Он и правда сказал, что пока я не признаюсь в этом беззаконии…
– Беззаконие – неоднозначное слово с множеством смыслов.
– Да послушай меня наконец, пожалуйста!
Молчание. Очень долгое молчание. Брат сидел спиной ко мне, уставив неподвижный взгляд в стену. Наконец он заговорил. А когда почти через полчаса он закончил рассказывать свою историю, я почувствовала, что у меня кружится голова и плывет под ногами пол.
– Значит, спустя пятнадцать лет ты решил все это выложить мне, – сказала я. – И, делая это, ты настаиваешь на том, чтобы я разделила с тобой эту тайну… и сохранила все именно что в секрете.
– Можешь всем рассказать, если хочешь.
– Не собираюсь я никому рассказывать. За последние годы ты навлек на свою голову достаточно неприятностей. Но я должна тебя спросить: кто еще кроме пастора Уилли об этом знает?
– Никто.
Я обшарила глазами все углы мрачной комнатушки, пытаясь разглядеть камеры или микрофоны. Как будто нет. И все же, прежде чем снова заговорить, я понизила голос до шепота:
– Так пусть все так и остается. Не слушай своего проповедника и не вздумай еще с кем-то поделиться этой историей. Ты уверен, что пастор Уилли будет молчать?
– Он всегда уверяет, что всё, о чем мы говорим наедине, остается между нами, что он большой специалист по хранению «вечных тайн».
И готова поспорить, что у него, как у очень многих сверхнабожных людей, наверняка имеются и собственные страшные тайны.
– Ну, твои секреты носят глубоко временный характер. Поэтому я намерена забыть обо всем, что ты рассказал.
– Сейчас ты говоришь совсем как папа, – усмехнулся Адам.
– Я кто угодно, только не наш отец.
– А почему же сговариваешься со мной точно так, как он много лет назад?
– Потому что мы, увы, родственники. И из этого следует, в частности, что теперь мне придется как-то жить, зная то, о чем ты мне поведал.
– Даже несмотря на то, что минуту назад ты обещала забыть все, что слышала?
– Это было бы слишком просто. Я никогда не забуду эту историю. Но никогда не стану ее обсуждать. И учти, я очень жалею, что ты мне все рассказал.
– Ты должна была знать. Это же про нас. Про то, что мы такое.
И тут же, оторвав взгляд от потрескавшихся потолочных панелей и люминесцентных ламп, Адам опустил глаза и уставился на меня, будто снайпер, нашедший свою цель.
– А ведь ты теперь в этом замешана, – произнес он.
Прошло несколько дней после того ошеломительного тюремного свидания. Тяжесть того, что совершил мой брат – при несомненном пособничестве отца, – давила на меня не так сильно, как мое согласие хранить тайну, которую он просто взял и выложил мне.
Адам оказался прав: обещав ему, что стану всегда хранить в тайне это ужасное преступление, дав обет молчания – омерта, – я стала соучастницей.
Все семьи – это тайные общества.
А открытая кому-то тайна перестает быть тайной.
Когда тайна становится известной родителю, брату или сестре, она может превратиться в секретный сговор, заговор. При условии, что все эту тайну сохраняют.
Ты должна была знать. Это же про нас. Про то, что мы такое.
Мы, Бернсы. Родители, рожденные во время изобилия 1920-х, быстро сменившегося лишениями и национальным упадком. Трое детей, поочередно появившихся на свет на фоне мира и благополучия середины века. Квинтет американцев из верхушки среднего класса. И свидетельство – в свойственном нам неповторимом мучительном стиле – того сумбура, в который мы превращаем свои жизни.
Моя мать, насквозь предсказуемая, вечно изрекающая в качестве утешения прописные истины, обронила недавно фразу, в которой сверкнула скрытая мудрость: «Семья – это всё… вот почему так нестерпимо больно».
Я оцениваю все это с довольно шаткой позиции – заглядываю через беззаботную пропасть юности в свое четвертое десятилетие, всматриваюсь в свой персональный ландшафт, замусоренный всякой дрянью, по большей части унаследованной или собственного производства. Пытаюсь понять, когда началась эта череда неурядиц. Когда же все мы выбрали ее?
Очнувшись, я перевела взгляд на рукопись, подняла еще непотухшую сигарету. Сделав еще одну затяжку, чтобы успокоиться, взялась за ручку.
Все семьи суть тайные общества.
К этому, будь это моя книга, я бы добавила следующие строчки:
И если прошедшие два десятилетия научили меня чему-то, так это важной истине: несчастье – это выбор.