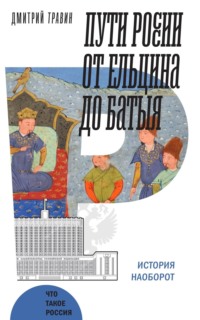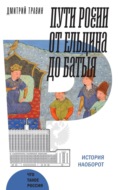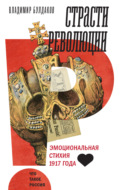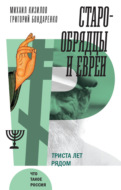Kitobni o'qish: «Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот»
© Д. Травин, 2025
© Е. Абрамова, иллюстрации, 2025
© Д. Черногаев, дизайн серии, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
На обложке: Батый на троне Золотой Орды. Источник: Рашид ад-Дин. История мира [Ок. 1430–1434]. Национальная библиотека Франции / BNF.
Предисловие. О том, как связаны между собой Борис Николаевич и Бату Джучиевич
Что еще за «наоборот»? Почему «от Ельцина до Батыя», хотя старина Батый жил за 700 с лишним лет до нашего Бориса Николаевича? И существуют ли какие-то пути, связывающие давнюю эпоху «лихого монгольского нашествия» с эпохой «лихих девяностых», которую мы недавно пережили? Подобные вопросы неизбежно должны возникать при виде этой книги, а потому здесь особо требуется предисловие.
Эта книга не является кратким изложением российской истории для начинающих ее изучать людей. Более того, лучше, если вы хоть в общих чертах представляете себе картину нашего прошлого, поскольку при изложении исторического материала я часто буду пропускать важную для общего обзора информацию. Зато стану останавливаться на обстоятельствах, которые пропускают авторы учебников, но которые чрезвычайно важны для моего авторского видения многовекового хода развития нашей страны. Кстати, в учебниках и популярных обзорах российской истории у нас нет недостатка: проблема скорее в том, как выбрать качественный по содержанию и не сильно идеологизированный том.
Моя книга написана даже не столько для любителей истории, сколько для тех, кто хочет понять современность. Но написана на историческом материале, а потому читателю все же лучше любить живую историю, а не застылые абстрактные схемы, поскольку иначе читать будет тяжеловато. Это не историческое, но историко-социологическое исследование. Оно для тех, кто задается экономическими вопросами о богатстве и бедности, политологическими – о демократии и автократии, социологическими – о поведении населения в связи с богатством, бедностью, демократией и автократией. Однако в сравнении с тем, как пишут свои научные труды экономисты, политологи и социологи, здесь все будет наоборот. Читатели не увидят ни статистических данных о валовом продукте и реальных доходах, ни анализа столкновения групп интересов в борьбе за власть и ресурсы, ни результатов массовых опросов населения. В этой книге будет раскрыта подробная картина прошлого, поскольку автор полагает, что оно влияет на современность не меньше, чем желания вождей, строящих автократии и демократии, или широких масс, стремящихся к богатству, а не к бедности.
Поясню, что найдет читатель в этой книге и чего не найдет. Стремясь определить, почему живем так, а не иначе, мы используем обычно три возможных подхода к проблеме, но лишь один из них будет применен здесь.
Первый подход предельно субъективен, но чрезвычайно распространен: хорошая жизнь существует благодаря хорошим начальникам, а плохая – из-за плохих. Этот подход может варьироваться в зависимости от того, насколько глубоко его приверженец готов проникнуть в суть проблемы. Поверхностно размышляющий человек хвалит или ругает действующую власть, не понимая даже толком, что она делает, тогда как вдумчивый человек, склонный к серьезным размышлениям, может хвалить или винить реформаторов прошлого, сформировавших своими действиями институты (правила игры), благодаря которым формируются автократия или демократия, автаркия страны или открытость миру, рыночное хозяйство или административная система управления. Тем не менее всех приверженцев данного подхода объединяет представление, будто можно создать хорошую или плохую жизнь почти «с чистого листа». «Рюрик учредил русское государство», «Все, что мы имеем, создано Петром Великим». «Прекрасна была Россия, пока не явился Ленин». «Сталин принял страну с сохой, а оставил с ядерной бомбой». «Хорош был СССР, но Горбачев его развалил». «Нет Путина – нет России». Примеров подобного рода высказываний можно приводить довольно много.
Второй подход, наоборот, предельно объективен. Он не принимает во внимание роль конкретных людей, влиятельных групп интересов и текущих обстоятельств. Он также довольно широко распространен, однако скорее среди интеллектуалов, чем у народных масс. Его сторонники полагают, что есть вечные или, по крайней мере, долговременные факторы, влияющие на жизнь народа. Порой эти обстоятельства называют культурой, имея в виду, естественно, не живопись, литературу и театр, а ментальные установки, передающиеся от поколения к поколению вне зависимости от характера людей, их интересов, чаяний, индивидуальных свойств, а также знаний, полученных в новые эпохи. Согласно данному подходу, сколько бы ни пытались реформаторы втолковать человеку, что, коли поступит он так-то и так-то, жизнь улучшится, «воспитуемый» отвечает, что перемены не соответствуют нашей культуре и нашим исконным традициям, а потому не имеют никакого смысла. В свете подобной логики начитанные интеллектуалы породили немало рассуждений, на основе которых можно строить даже альтернативную всемирную историю. «Культура Античности сформировала Европу». «Торговля расцветала всюду, где появлялись евреи». «Лишь протестантская этика создала дух капитализма». «Русский человек ленив и не предприимчив». «Британская свобода возникла с принятием Великой хартии вольностей в 1215 году». «У немцев – особый путь развития: Sonderweg». «К северу от Пиренеев – цивилизация, к югу – варварство». «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет Небо с Землей на Страшный Господень Суд». Примеров подобного рода мудрости можно приводить довольно много, хотя на Западе сейчас уже очень редко рассуждают об особом пути той или иной страны или о нерушимых границах, разделяющих цивилизацию и варварство.
О каждом из двух отмеченных подходов написаны горы книг. Принять или отвергнуть их полностью было бы неверно. Вожди и реформаторы действительно во многих случаях влияют на нашу жизнь, хотя порой оказываются бессильны навязать обществу свои представления. Сложившаяся веками культура влияет на наше сознание, однако во многих случаях не способна остановить перемены, которых желают «дети», несмотря на строгий окрик «отцов». Книга, которую вы держите в руках, предлагает иной подход – третий. Суть его сводится к тому, что события, происходящие сегодня в обществе, зависят не только от сиюминутных действий вождей и фундаментального воздействия культуры, но и от исторического пути страны, то есть от того, чем она в ту или иную эпоху отличалась от соседей. По одним странам прокатились революционные волны, по другим – разрушительные войны. Где-то давно сформировались силы, способные противостоять деспотизму, тогда как в иных местах тираны столетиями держали народы в повиновении. В одних регионах мира сама природа щедро наделяет человека богатствами, но есть на планете другие места – суровые, голодные, не приспособленные для нормального проживания и тем не менее населенные.
Обо всем этом хорошо сказал известный американский социолог Фрэнсис Фукуяма: «Ни одна страна не находится в ловушке своего прошлого. Но во многих случаях произошедшее сотни или даже тысячи лет назад продолжает оказывать значительное влияние на природу сегодняшней политики. Если мы пытаемся понять функционирование современных институтов, нам необходимо взглянуть на их происхождение – и на те силы, зачастую случайные и непредвиденные, которые вызвали их к жизни». Размышляя об этих силах прошлого, следует четко различать нашу зависимость от исторического пути страны и нашу зависимость от культуры. Порой эти два фактора, влияющие на современность, смешивают, что приводит к серьезным ошибкам. Революции и войны, богатство и бедность, свобода и деспотизм становятся результатом определенных обстоятельств, встречающихся на долгом историческом пути. Но когда обстоятельства меняются, появляется возможность для смены институтов, вслед за чем меняется характер деятельности людей и, наконец, их образ жизни. С культурой же все иначе: как бы ни менялись обстоятельства, она требует ориентироваться на фундаментальные традиционные ценности. Зависимость от культуры порождает ссылки на отцов, дедов и прадедов, чей путь был единственно возможным с точки зрения сыновей, внуков и правнуков. Зависимость же от исторического пути, напротив, порождает противоречия отцов и детей. Если текущие обстоятельства не давят на новые поколения, они радостно отходят от заветов предков и порой даже скептически усмехаются при упоминании об упертости консервативных обитателей родного «гнезда».
Зависимость от исторического пути в нашей стране с легкой руки экономиста Александра Аузана называют колеей. Думается, что это очень точное сравнение. Двигаясь по ровной дороге, нетрудно свернуть направо или налево, если такой поворот мы сочтем необходимым. Но, двигаясь в колее по разрушенной, вязкой, залитой водой дороге, совершить поворот оказывается трудно, даже если мы принимаем такое решение и энергично вращаем руль. Машина вязнет, колеса проворачиваются вхолостую, колея «настаивает» на том, чтобы мы двигались туда, куда хочет она, а не водитель. Можно ли преодолеть зависимость от колеи? Конечно, можно. Но это потребует существенных усилий и будет порой зависеть от объективных обстоятельств. При мощном моторе, хорошей резине и неглубокой колее совершить поворот, наверное, легче. Но если дорога и машина плохи, придется вылезать из салона, подкладывать доски под колеса, а в худшем случае – энергично работать лопатой, разгребать вручную накопившиеся за годы завалы. А кому-то из пассажиров придется подталкивать машину сзади. Но рано или поздно при совокупных усилиях колея нас отпустит.
Зависимость от культуры, если продолжать образные сравнения, проявляется в том, что сам водитель не готов свернуть с плохой дороги. Справа, мол, волки, слева бандиты. Страшно – аж жуть. Лишь наша дорога, лишь наш особый, хоть и тернистый, путь выведет к цели!
Исторический путь нашей страны был долог, извилист и тернист. Что только нам не встречалось! Были и трудные войны, и страшные революции, и деспотизм с сервилизмом. Но были прорывы к свободе, творческие полеты мысли, успехи в экономике, серьезные позитивные сдвиги в образовании. Россия двигалась в колее, но совершала в нужный момент нужный поворот и никогда не принимала фатального решения полностью отдаться фундаментализму, отказаться от поиска пути, более соответствующего велению времени.
Сами по себе важнейшие события истории той или иной страны хорошо известны. Каждый интересующийся петровской модернизацией, Отечественной войной 1812 года, Великими реформами Александра II, большевистской революцией или горбачевской перестройкой может найти себе книги по интересам. У этой книги иная задача. Я хочу проследить долгий исторический путь России, отслеживая, как прошлое влияло на будущее при прохождении каждого этапа развития, каждого крутого поворота. Я хочу понять, почему мы такие, какие есть, исходя не из влияния персон или культуры, а из влияния сложных метаморфоз истории. Именно поэтому книга выстроена как история наоборот: она раскрывается из современности в прошлое. Мы попытаемся, отталкиваясь от осознаваемых почти каждым современником проблем, двинуться к их истокам. А обнаружив, что эти истоки, в свою очередь, скрывают проблемы, осознававшиеся современниками бурных событий прошлого, попытаемся найти, в свою очередь, их истоки. И так далее… Двигаться в прошлое мы будем не до Адама, но до того давнего исторического рубежа, который нам трудно проанализировать из-за отсутствия доступной науке информации.
Может показаться, что столь основательное погружение в прошлое все же не требуется для понимания сегодняшней России. Ну погрузимся мы, скажем, в «лихие девяностые»! Ну проанализируем сталинизм! Может, еще на революцию 1917 года бросим внимательный взгляд! А дальше-то зачем? Увы, на самом деле «прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать его бездонным?». С этих слов начинал Томас Манн свой знаменитый роман «Иосиф и его братья», и любое наше погружение в историю показывает, что основание нынешнего нашего мира косвенным образом зависит от событий, происходивших в чрезвычайно давние времена. Не предопределяются, а именно зависят от тех событий, поскольку на долгом историческом пути страны постоянно появляются новые влияния. Мы учитываем в своем развитии позитивный опыт других народов, реагируя на него то под воздействием поражений в войнах, выявляющих провалы в оборонных технологиях, то из-за стремления к улучшению жизни, стимулирующего погоню за качеством товаров и современной модой. Порой говорят, будто одна голова нашего двуглавого орла повернута на Запад, другая – на Восток. Вернее было бы сказать, что взгляд одной пары глаз устремлен в прошлое, от которого мы зависим, тогда как взгляд других глаз направлен на соседей, от которых слишком опасно отставать как в сфере вооружений, так и по уровню жизни населения.
Слишком большим упрощением было бы сказать, будто все, что мы нынче имеем, идет, скажем, от Петра Великого. Петр Алексеевич не меньше, чем Иван Васильевич Грозный, удивился бы нынешней российской жизни, перенесись он сквозь столетия на машине времени, как это было с героем популярного советского кинофильма. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» замышлял строить совершенно иную Россию и никак не планировал ни Великих реформ, проведенных Александром II, ни Октябрьского манифеста, дарованного Николаем II, ни тем более Беловежских соглашений, демонтировавших империю. Но жизнь внесла серьезные коррективы в то видение мира, которое было у государей (не только российских) начала XVIII века. И в этой книге мы постараемся проследить, как на каждом этапе развития России сочетались веяния, идущие из прошлого, с веяниями, порожденными новой эпохой.
Столкновение и сочетание разнообразных обстоятельств, оказывающих влияние на развитие общества, устраняет из истории всякое предопределение. «Общества не заперты в ловушку своим прошлым и свободно заимствуют идеи и институты друг у друга, – отметил Фукуяма. – Но то, что они собой представляют сегодня, в значительной мере определяется прошлым, и нет единого пути, который связывает одно с другим». Об этом же сказал и другой крупный социолог Зигмунт Бауман: «Каждый момент в истории – это развилка путей, ведущих к нескольким будущим. Человеческое общество существует на перекрестках. То, что в ретроспективе предстает как „неизбежное“ развитие, в свое время начиналось как вступление на одну дорогу из множества лежащих впереди».
Двигаясь вперед, страна постоянно оказывается на развилках истории. Чуть больше консервативного начала – и мы засидимся на каком-то этапе, пропуская вперед энергичных и агрессивных соседей. Чуть больше начала модернизационного – и мы двинемся вперед, обгоняя страны, которые слишком любят самих себя и слишком не любят чужой опыт. Важнейшие перемены, происходившие на долгом российском историческом пути, могли происходить раньше или позже, могли принимать совершенно иные формы, могли даже вовсе не случиться, если бы развитие пошло обходным, боковым путем. Историческое развитие напоминает игру в шахматы, но не только тем, что имел в виду Збигнев Бжезинский, сравнивший Евразию с великой шахматной доской, на которой столетиями идет жесткая борьба за мировое господство, а тем еще, что в этой игре возможно немыслимое число комбинаций, устраняющих жесткое предопределение. В этом своем исследовании я буду по мере сил прослеживать, как прошлое России влияло на происходившие в разные эпохи перемены, а чтобы подчеркнуть отсутствие предопределенности, продемонстрирую альтернативные варианты развития на каждом этапе исторического пути страны. При этом основное внимание будет уделено объяснению характера нашего движения, а не размышлениям о возможных иных путях, поскольку я пишу научно-популярную книгу по исторической социологии, а не научно-фантастическую альтернативную историю.
Здесь стоит использовать еще одно (помимо колеи) образное сравнение, помогающее лучше понять, почему на долгом историческом пути одни общества сравнительно быстро добиваются успеха, тогда как другие тяжело и мучительно преодолевают проблемы в своем стремлении догнать лидеров модернизации. Возьмем двух молодых людей, стремящихся сделать карьеру в науке, и изучим факторы, которые могли повлиять на их реальные достижения.
Один из них родился в крупном университетском городе, в интеллигентной, обеспеченной семье. Рано выучился читать и писать, ходил в хорошую школу с качественным преподаванием двух иностранных языков. Поступил в университет, а по окончании его сразу отправился в аспирантуру, легко защитил кандидатскую диссертацию, неоднократно проходил зарубежные стажировки. Можно сказать, что его «исторический путь» был чрезвычайно успешен. Подобная «фора» на старте научной карьеры дает хорошие возможности для дальнейшего развития, но ничего не гарантирует. В различных точках «исторического пути» возможны неожиданные повороты. На жизнь «счастливчика» могут оказать неблагоприятное влияние как внутренние, так и внешние факторы. Благополучная молодость может сильно расслабить, и в тот момент, когда потребуется принимать жесткие, нестандартные решения, «счастливчик» окажется к ним не готов. Скажем, несмотря на знание языков, откажется от возможности побороться за место в престижном зарубежном университете, испугавшись переезда в иную страну с иным образом жизни, иными правилами игры и иной средой, где нет заботливых старших, опекавших его с детских лет. А если неблагоприятные обстоятельства сделают эмиграцию вынужденной, он совсем растеряется и утратит энергию, необходимую для дальнейшего развития.
Другой наш герой вырос в провинции, ходил в плохую школу, рос в неблагополучной семье, не знал иностранных языков, а дворовая среда приучала его к пьянке и безделью. Такой «исторический путь» с большой вероятностью сделает научную карьеру невозможной. Но молодой человек может найти в себе силы на очередном крутом повороте порвать с держащими его в плену внешними обстоятельствами, вызубрить английский и поступить сразу в зарубежный университет, где есть стипендия, позволяющая худо-бедно жить без поддержки, которую родители все равно не способны ему оказать. Выдержав связанный со сменой образа жизни и места проживания стресс, наш герой, скорее всего, окажется более устойчив к дальнейшим крутым житейским поворотам. Он готов будет искать неожиданные возможности, менять места учебы и работы, а возможно, даже ловчить и интриговать ради карьеры. Если ему удастся не сойти с избранного пути в сложный момент, этот начинающий ученый может оказаться весьма успешным и к середине жизни добьется большего, чем счастливчик. Хотя из тех, кто идет по такому тернистому пути, лишь меньшинство способны достичь заветной цели.
Можно найти множество жизненных примеров таких обстоятельств, которые позволяют скромному провинциалу круто изменить свой путь и добиться успеха. Возможно, он не проявит столь сильной воли, чтобы уехать за рубеж, но окажется в приличном отечественном университете по квоте для военнослужащих. Возможно, он начнет карьеру в качестве активиста молодежного движения правящей партии. Или у него обнаружится влиятельный родственник среди власть имущих. Но если наш герой с детства воспринял жесткую семейную установку ничего не менять, не уезжать из родного села, не соблазняться городским образом жизни, не стремиться к суетному успеху, а думать о спасении души или поддержании традиционных ценностей, никаких перемен в его жизни не случится.
Я не собираюсь выставлять этические оценки этим житейским стратегиям, не собираюсь говорить, что хорошо, а что плохо. Я стремлюсь показать влияние на будущее человека его зависимости от пути и зависимости от культуры. Если есть лишь первая зависимость, «судьбу» можно переломить собственными усилиями и под влиянием благоприятных обстоятельств. Если доминирует вторая зависимость, «судьба» будет именно такой, какой намечалась «на старте».
Признание того, что на историческом пути могут быть разные альтернативы, не означает признания возможности абсолютно любых поворотов. Не стоит путать альтернативную историю, представляющую собой небесполезное интеллектуальное упражнение, с чистым мифотворчеством, способным принести лишь вред в стремлении понять свою страну, свою историю, свое место на планете. Историческая альтернатива – это то, что могло бы случиться, если бы сочетание реальных обстоятельств оказалось несколько иным. Мифотворчество – это выдуманная альтернатива, основанная не на изучении реальных обстоятельств, а на недобросовестной подгонке истории под наши желания. Нам часто не нравится, как страна прошла тот или иной этап своего развития. Нам хочется заклеймить нелюбимых героев истории и возвести на пьедестал любимых. Так возникают фантазии, больше похожие на захватывающие исторические романы, дающие безграничный простор вымыслу автора, а не на приемлемые в науке размышления об альтернативах. По мере нашего погружения в «бездонный колодец прошлого» я буду давать характеристику некоторым утвердившимся в массовом сознании мифам, стараясь показать, чем они отличаются от возможных альтернатив.
В предлагаемую вам небольшую книгу предполагается впихнуть чрезвычайно большой объем материала, и это может вызвать скептические оценки. Много лет назад, задумав популярное изложение извилистых исторических путей России, я понимал связанные с таким подходом опасности, а потому не спешил публиковать книгу. Первую попытку изложения своих взглядов по данному предмету я предпринял в большой серии статей для «толстого» журнала «Звезда» в 2013–2015 годах. Характер подачи материала был традиционным: от прошлого к современности. Затем была попытка краткого рассказа, построенного уже по принципу «история наоборот», для интернет-издания economytimes.ru РАНХиГС. Были и лекционные курсы на данную тему. Но я не превращал наработки в научно-популярную книгу до тех пор, пока не проделал основную часть своей большой исследовательской работы о модернизации России, предполагающей ее сравнение с модернизацией других европейских стран. Сегодня моя работа близка к завершению. Читатель, желающий ознакомиться с материалом более подробно, может обратиться к моим книгам «„Особый путь“ России: от Достоевского до Кончаловского», «Как государство богатеет: путеводитель по исторической социологии», «Почему Россия отстала?», «Русская ловушка», «Как мы жили в СССР», «Очерки новейшей истории России: 1985–1999», а также к написанному совместно с Отаром Марганией двухтомнику «Европейская модернизация» (где подробно рассказано о преобразованиях, осуществлявшихся в XVIII–XX веках на Западе) и к первым пяти главам написанной совместно с Владимиром Гельманом и Андреем Заостровцевым книги «Российский путь: Идеи. Интересы. Институты. Иллюзии» (где говорится о том, что в это время происходило на нашей земле). Для самых внимательных, любознательных и в то же время нетерпеливых читателей есть препринты моих докладов, сделанных за годы работы в Европейском университете в Санкт-Петербурге (ЕУ СПб). Эти доклады – базовый материал для глав тех книг, которые еще находятся в стадии подготовки к изданию. Их можно изучить на сайте ЕУ СПб, открыв страничку Центра исследований модернизации.
Вся эта многолетняя работа позволила мне взяться наконец за небольшую научно-популярную книгу, поскольку теперь я могу опустить многие важные детали повествования и доказательства выводов, зная, что вы имеете возможность обратиться за разъяснениями к другим моим трудам. В этой книге читатель не найдет многих чрезвычайно любопытных примеров из нашей истории. Но что поделать: я должен был, не перегружая рассказ фактами, цитатами и сносками, максимально высветить общую логику развития нашей страны. В этой книге мне скрепя сердце пришлось отказаться от демонстрации всего европейского фона, на котором шло развитие России: я должен был сохранить динамизм повествования, ведя своего читателя кратчайшими путями сквозь долгие столетия. Лишь в завершающей книгу главе я очень кратко демонстрирую на примере нескольких других стран, что зависимость от исторического пути прослеживается не только в российском случае. В общем, «Пути России от Ельцина до Батыя» не будут зависать подолгу на отдельных крутых поворотах истории, чтобы не утомлять читателя, но тот, кто сам захочет «утомиться» в поисках истины, легко найдет для этого необходимые тома, тем более что в каждой из упомянутых выше книг я даю подробнейшие списки литературы.
Ну и под конец надо честно признать, что стимулировали меня к написанию этой небольшой книги грустные размышления, навеваемые некоторыми событиями последних лет. В иной ситуации надо было бы, наверное, потратить четыре-пять лет на превращение препринтов в монографии, а затем уже представлять читателям научно-популярную версию научных трудов. Но все чаще в голову закрадывалась мысль, что, если нам предстоит пройти еще через пару столь крутых поворотов, на которых «наездников» вышибает из седла, я могу вообще не окончить свою большую исследовательскую книжную серию. Читатель должен будет выискивать по препринтам не только собранный для будущих книг материал, но даже основные авторские тезисы, завершающие размышления об историческом развитии России. Надеюсь, что мои пессимистические соображения не превратятся в реальность. Но мне трудно совсем их выкинуть из головы, поскольку речь идет о деле почти всей моей долгой научной жизни. Поэтому, руководствуясь принципом не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, я решил вначале предложить читателям эту книгу, а затем уже, при благоприятном развитии обстоятельств, завершить большую научную серию.
Поскольку книга эта писалась сравнительно быстро, а вызревала практически всю жизнь и отразила в той или иной мере многие мои прошлые труды, здесь сложно выразить все принятые в таком случае благодарности. Они есть во многих моих старых предисловиях. Сейчас скажу лишь одно: всем, что имею, я обязан авторам сотен книг и статей, давших мне нужные для работы знания, друзьям и коллегам, помогавшим с этими знаниями разбираться на семинарах или за чашкой чая, научным библиотекам, в которых мне никогда не надоедает сидеть, издателям, материализовавшим мои идеи в интересах тысяч читателей, самим читателям, вдохновлявшим к материализации путаных и порой авантюрных идей, а главное – семье, без которой всё в моей жизни было бы путаницей и авантюрой.