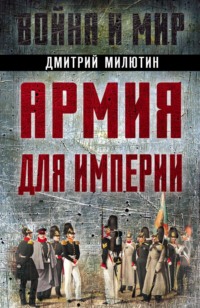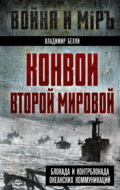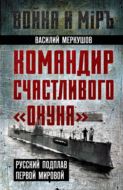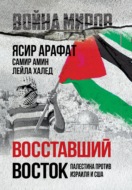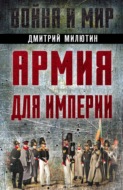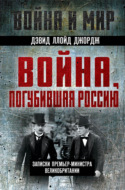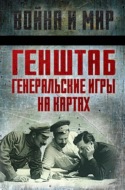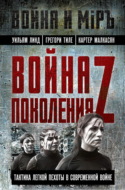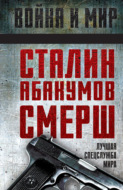Kitobni o'qish: «Армия для империи», sahifa 2
Еще не был заключен мир с турками, как Суворову открылась уже новая деятельность: он отправился на Волгу и Яик, для усмирения Пугачевского бунта, принявшего тогда опасные размеры. Поручение это было исполнено с необыкновенным усердием и быстротой; сам Пугачев схвачен и казнен. Суворов прибыл в 1775 г. в Москву, где императрица Екатерина пышно торжествовала мир Кучук-Кайнарджийский. Около года Суворов оставался без дела, и в это время вступил в брак с княжной Прозоровской: но он не рожден был для тихого счастья семейного; отдых и бездействие ему скоро наскучили; он рвался снова в свою стихию, на простор лагеря и бивака. В 1776 году он снова отправился на юг, и в продолжение десяти лет, протекших до начала новой войны с Турцией, Суворов нес службу самую деятельную и разнообразную: то в Крыму, то на Кубани и в Черномории, то в Астрахани и на Каспийском море. Быв одним из главнейших действователей в запутанных делах крымских, Суворов тут показал уже в себе не одни качества отважного воина, но вместе с тем и тонкий ум в делах политических. Утомленный, наконец, напряженной деятельностью и чувствуя влияние климата на свое здоровье, Суворов не раз выражал желание переменить место службы: в 1785 году он вызван в Петербург для командования С.-Петербургской дивизией, но оставался тут недолго; ибо в исходе 1786 г. снова получил начальство над войсками в Новороссийском крае. Назначение это имело тогда особенную важность и было знаком милостивого расположения императрицы; ибо в то время Екатерина Великая предприняла необыкновенное свое путешествие в новоприобретенные южные области. Суворов встретил императрицу в Киеве, показывал ей свои войска и сопровождал ее в великолепном ее поезде.
В то время Суворов уже достиг высокого положения в армии и при дворе; произведенный в 1786 г. в чин генерал-аншефа, он имел, кроме Георгия 2 ст., ордена: 1 ст. Св. Александра Невского, Св. Владимира (большого креста), Св. Анны и бриллиантовую шпагу. При дворе он имел сильную поддержку в Потемкине, который в то время достиг уже высшей степени величия. Враги и завистники Суворова, оскорбленные его резкими шутками, или с презрением смотревшие на его странности и приписывавшие все его успехи одному счастью, умолкли на время, видя, что сама императрица благоволила к чудаку, советовалась с ним о делах государственных и всегда горячо вступалась за его ум и достоинства. Екатерина Великая обладала особенным даром и счастьем в выборе людей: при дворе ее, в армии, во флоте, в гражданском управлении, везде выдвинулись замечательные личности, люди блестящие, которых так живописно назвал поэт «екатерининскими орлами». Суворов блистательнее всех оправдал монаршее покровительство.
В 1787 году возобновилась война с Турцией, и первым началом военных действий был опять замечательный подвиг Суворова: мужественная оборона Кинбурнской косы против высадки многочисленных турецких войск. В этом кровопролитном и упорном деле Суворов лично подвергался большой опасности и сильно ранен в руку. Наградой ему был орден Св. Андрея Первозванного. В следующем году Суворов с корпусом своим поступил в состав войск, осаждавших Очаков, под личным начальством Потемкина: продолжительное пребывание целой армии в совершенном бездействии под стенами неважной турецкой крепостцы, выводило из терпения Суворова; он не мог скрывать своей досады, выражал ее и на словах и в письмах; наконец, воспользовавшись однажды вылазкой турок, он сам, без всякого приказания, бросился с двумя батальонами вслед за неприятелем, чтобы внезапным ударом ворваться в крепость. Отважная попытка эта не удалась: в кровопролитной схватке Суворов сам получил тяжелую рану в шею, так что должен был уехать лечиться. Потемкин, уже недовольный на Суворова за его нескромные речи и письма, крайне рассердился на его самовольство и ослушание. Несколько времени спустя, Суворов, еще не совсем оправившись от раны, снова явился к Потемкину; но принят был так грозно, что принужден уже вовсе уехать из армии в Кременчуг.
Крутой нрав Суворова много вредил ему и в отношениях служебных, и в общежитии; он не умел, как говорится, ладить с людьми: своеобычность его доходила до упрямства, пылкость – до строптивости, самолюбие – до зависти. Для начальников он был подчиненный самый беспокойный. В Польше поссорился он сперва с Веймарном, а потом, когда на смену последнего прибыл Бибиков, рассорился и с ним, несмотря на прежние дружеские к нему отношения. В Турции Суворов роптал на Салтыкова, поссорился с Каменским и восстановил против себя Румянцева. Но все эти размолвки не могли быть для него столь опасны, как гнев могущественного и надменного Потемкина. Когда «великолепный князь Тавриды», одолев наконец сопротивление Очакова, прибыл в Петербург торжествовать победу, когда все преклонялось раболепно пред временщиком, осыпанным несметными щедротами монархини, – Суворов казался забытым навсегда. Враги и завистники обрадовались уже его падению. Но Суворов по-прежнему стоял высоко в мнении императрицы и нашел поддержку в графе Платоне Зубове, который в то время только что начинал возвышаться. Сама государыня, ценя высокие достоинства Суворова, постоянно, покровительствовала ему и защищала против всех враждебных на него наветов. Потемкин, со своей стороны, упоенный почестями и торжествами, охотно забыл свой гнев на генерала, в котором мог иметь полезное для своей славы орудие. И вот Суворов вызван в Петербург и снова отправлен в действующую армию.
В 1789 году Потемкин, приняв общее начальство над обеими армиями в Турции, поручил Суворову отдельный корпус, расположенный в Молдавии, у Бырлата, для связи с австрийским корпусом принца Кобургского, расположенным также в Молдавии у Аджуда. В течение этой кампаний Суворову пришлось два раза выручать австрийцев: внезапно являлся он на помощь союзникам, и вместе с ними поражал на голову многочисленные толпы турок, сперва при Фокшанах, а потом на Рымнике. Оба раза Суворов поступил с обычной своей оригинальностью: перед сражением при Фокшанах никак не хотел он иметь свидания с принцем Кобургским, вероятно для того, чтобы избежать всяких с ним прений и несогласий; оба союзные войска соединились почти на самом поле сражения и двинулись общим боевым порядком на неприятеля. Только по окончании боя увиделись оба военачальника: они бросились друг другу в объятия, поздравляя взаимно с победой. Сражение на Рымнике также начато было без общего предварительного соглашения и вторично одержана была полная победа. Необыкновенная быстрота, с которой Суворов прилетал на помощь союзникам, самоуверенность, с которой шел он атаковать неприятеля, несравненно превосходная в силах, верный расчет и твердость в бою внушили принцу Кобургскому высокое уважение к русскому генералу, которого называл он своим спасителем и наставником. Суворов со своей стороны выхвалял мужество принца и храбрость австрийских войск. С этого времени Суворов и принц Кобургский были связаны узами самой искренней дружбы, и когда в следующем году пришлось им расставаться (по случаю примирения Австрии с Турцией), то принц простился с союзником своим самым трогательным письмом. Имя Суворова сделалось знаменитым в Австрии; император Иосиф возвел его в графы Римской Империи. Императрица Екатерина осыпала его наградами: он получил графское достоинство с титулом Рымникского, бриллиантовые знаки Св. Андрея Первозванного и орден Св. Георгия 1-й степени.
Одни победы Суворова придали блеск кампании 1789 года; сам же Потемкин почти все время оставался в бездействии. Следующая кампания была еще бесцветнее и бесплоднее; в то время, когда Австрия примирилась уже с Турцией, когда Потемкин вел также переговоры и ограничивался обложением и осадой некоторых крепостей, Суворов не переставал порицать нерешительность военных действий и твердил о том, чтобы идти за Дунай, даже к самому Цареграду. В конце года Потемкин, желая каким-нибудь успехом заключить кампанию и сделать турок уступчивее в переговорах, решился овладеть Измаилом: предприятие это, считавшееся дотоле неисполнимым, возложено было на Суворова, и скоро неприступный Измаил взять штурмом. Победа стоила много крови; немногие из защитников крепости остались в живых; но обвинять в том победителя, упрекая его в жестокости и бесчеловечии, могли только те, которые не знали, с каким отчаянным ожесточением дрались турки в своих крепостях.
Взятие Измаила было одним из блистательнейших и громких подвигов Суворова; но последствием был окончательный разрыв с Потемкиным. Приехав к нему в Яссы, Суворов был оскорблен приемом Потемкина, который, обняв победителя, сказал ему: «Чем могу я наградить вас, Александр Васильевич?» Вспыльчивый Суворов надменно возразил на это: «Кроме Бога и матушки-государыни, никто наградить меня не может». Потемкин в бешенстве не нашел ни одного слова; они расстались непримиримыми врагами и более уже не видались. Суворов отправился в Петербург; единственной наградой ему за взятие Измаила было звание подполковника гвардии, тогда как Потемкин, также приехавший вскоре потом в столицу, был принят настоящим победителем. Взятие Измаила торжествовали пышно, а Суворова при этом как будто позабыли. Однако же императрица, продолжая покровительствовать ему, вздумала снова дать ему поручение на шведской границе: едва только Государыня выразила о том свое намерение, как Суворов в тот же день садится в тележку, выезжает из Петербурга, и пишет из Выборга к императрице: «Жду повелений твоих, матушка!» Подобные проделки уже не удивляли императрицу: Суворову поручено было начальство над войсками в Финляндии.
Такое назначение имело почти вид почетного изгнания; тяжко было Суворову удаление от театра войны. Но в тот же год (1794) война с Турцией кончилась Ясским миром, а Потемкин вскоре умер. Суворов оставался еще более года в Финляндии, занимался своей должностью с обычным рвением и усердием: обучал войска, осматривал крепости, строил укрепления. Старания его искоренить замечаемые в службе злоупотребления и откровенные о том донесения опять вооружили против него множество старых и новых врагов. В Петербурге осуждали все действия Суворова, находили во всех распоряжениях его самоволие и прихоти; между прочим более всего кричали, что он изнуряет солдат учениями, и в особенности, что вздумал будто бы уничтожать госпитали, столь необходимые по климату Финляндии, располагающему к скорбуту. Суворов, глубоко огорченный распускаемыми на его счет клеветами, горячо опровергал их в своих письмах, оправдывался и не щадил своих врагов. Относительно госпиталей писал он: «Говоря отменить, я разумел опорожнить госпитали оздоровлением». К этому прибавлял вообще свое мнение об этом предмете: «Не терплю госпиталей; тот их любить, кто не радеет о здоровье солдата. Минералы и ингреденции не по солдатскому воспитанию… По вступлении моем в управление Финляндией я нашел 4000 чел. в двух госпиталях; теперь их остается только 40. В госпитале следуют у меня чахотка, водяная, кашель да…, а остальное должно лечить в артелях. Кислая капуста, табак, хрен – и нет скорбута»… и т. д. (см. прилож. V).
Возражения эти приводим здесь в особенности потому, что в числе различных обвинений, которые навлек на себя Суворов, чаще всего упрекали его в том, будто бы он не заботился о сбережении солдат, жертвовал ими бесчеловечно: и при штурмах, и в сражениях, и в быстрых походах, и даже в мирное время, на учениях. Правда, Суворов не избегал решительных сражений, а напротив того, искал их, предпочитая один решительный удар продолжительным, бесплодным камланиям: но всякое предприятие его было заранее обдумано, и когда он решался на что-нибудь, то никогда уже не колебался в исполнении; настойчивость и непреклонная воля составляли отличительные черты всех его действий (см. прилож. VI). Конечно, это вело иногда к сильным кровопролитиям; но кто же сомневается в том, что продолжительные бесплодные маневры, осады, блокады, стоят еще большей потери в людях, чем битвы самые кровопролитные? При своих маршах, неимоверно быстрых, Суворов имел в виду, что внезапность появления пред неприятелем стоит почти победы и с избытком вознаграждает за несколько лишних отсталых. Только посредством этой быстроты удавалось Суворову в Польше предупреждать сборы конфедератов и с ничтожными силами разбивать их многочисленные толпы. Притом Суворов умел особым своим распределением марша облегчать войскам тягость переходов, как увидим подробно в кампаний италийской. Он даже хвалился сам малой потерей людей в своих походах. В мирное время Суворов также приучал войска к большим переходам и ко всем трудам боевой жизни, чтобы укрепить и тело, и душу солдата. Госпиталей не любил он точно так же, как не любят их и сами солдаты; для уменьшения же в войсках болезней и смертности, считал он лучшим средством всегда и во всем применяться к обычному для простого русского человека образу жизни и привычкам, наблюдать чтобы войска исправно получали все положенное им довольствие, а для того искоренять бесчисленные злоупотребления, которые в то время сильно развились в управлений военном. Вот что подняло против него столько злоречия и вражды!
К счастью Суворова, императрица Екатерина продолжала оказывать к нему милостивое расположение, пренебрегала всеми клеветами и не раз выражала ему свое благоволение за полезные его труды по укреплению шведской границы. Но Суворову казался тесным этот круг деятельности. В то время возобновились опять беспокойства в Польше; Суворов просился туда, чтоб потушить искры прежде, чем разгорится пламя. На письме его императрица написала такую резолюцию: «Польские дела не требуют графа Суворова: Поляки просят уже перемирия, дабы уложить как впредь быть». В конце же 1792 года Суворов получил новое назначение: под начальство его вверены все войска, расположенные в Новороссийском крае; вместе с тем на особенное попечение его возложено приведение в оборонительное положение границы империи со стороны Турции.
Поселившись в Херсоне, Суворов занялся обучением своих войск, осмотром крепостей, инженерными работами. В это время получил он новые знаки монаршей милости: императрица Екатерина, торжествуя мир с Турцией, не забыла при этом прежних заслуг Суворова, прислала ему грамоту, бриллиантовый эполет, перстень, и предоставила ему возложить крест св. Георгия 3-й степени на того, кто, по мнению его, наиболее заслужил такую награду в последнюю войну. Среди неутомимых и разнообразных трудов служебных Суворов следил внимательно за ходом политических дел в Европе: наблюдательный и проницательный ум его постиг рано всю важность тогдашних событий во Франции: Суворов и в разговоре, и в письмах предсказывал бедствия, ожидавшие Европу от страшного переворота на Западе, выражал необходимость общего единодушного сопротивления всех монархов разрушительному потоку революций. Суворов был отъявленным врагом революционного духа; в глубине души своей негодовал он на низвержение во Франции прежнего монархического устройства и горячо сочувствовал тем пламенным роялистам, которые решились поднять оружие на защиту законного престола. Суворов с дозволения императрицы написал восторженное письмо к знаменитому предводителю Вандейцев, Шарету. Видя, как безуспешно германские войска боролись с республикой в первые кампании, Суворов досадовал, что императрица не хотела принять деятельнейшего участия в этой войне. Он даже официально просился волонтером в германские войска, действовавшие тогда за Рейном. 7 июня 1793 года Суворов написал прямо императрице:
«Всемилостивейшая Государыня! Ваше Императорское Величество, всеподданейше прошу, Высочайше повелеть меня, по здешней тишине, уволить волонтером к немецким и союзным войскам на всю кампанию, с оставлением мне нынешнего содержания из высокомонаршего милосердия»… (см. прилож. VII).
На это прошение государыня милостиво отвечала следующим рескриптом:
«Граф Александр Васильевич!
Письмом вашим от 24 июля (?), полученным мною сего утра, вы проситесь волонтером в союзную армию. На сие вам объявляю, что ежечасно умножаются дела дома, и вскоре можете иметь тут по желанию вашему практику военную много; и так не отпуская вас поправить дела ученика вашего, который за Рейн убирается по новейшим вестям, Я ныне, как и всегда, почитаю вас отечеству нужным…
Екатерина.
2 августа, 1793 года».
Действительно, вскоре понадобился меч Суворова: дела в Польше приняли такой опасный оборот, что императрица сочла нужным прибегнуть к мерам решительным. Начальство над всеми войсками в Польше предложено было сначала Румянцеву; но семидесятилетний фельдмаршал, дряхлый, истощенный болезнями и огорчениями, отклонил от себя такое тяжелое бремя. Суворов принял его с живой радостью. В то время ему было уже 64 года; при малом росте, сухощавый, несколько сгорбленный, имел он вид дряхлый; на голове его, рано поседевшей, оставалось лишь несколько клоков белых волос, собранных впереди локоном; лицо было в морщинах; но выражение его оживлено было умным, проницательным взглядом: маленькие глаза его сверкали огнем энергии; он сохранил необыкновенную для своих лет бодрость телесную и душевную; бойко ездил верхом; шутя прыгал и бегал; в походе не знал экипажа. Появление этого старика перед войсками, несколько слов его, какая-нибудь шутка, приводили солдат в неизъяснимый восторг. Одно известие о назначении Суворова главнокомандующим в Польше ободрило русские войска и встревожило неприятельские.
Действия Суворова в Польше были непродолжительны: в половине августа выступил он из Немирова, а в конце октября уже взял штурмом Прагу и торжественно вступил в Варшаву. Кровопролитный этот штурм, напомнивший ужасы Измаила, также ставился Суворову в упрек, как бесчеловечное побоище; но можно ли обвинять победителя в последствиях отчаянного сопротивления со стороны побежденного? Суворов со слезами благодарил Бога, когда депутаты варшавские явились к нему с изъявлением покорности и тем избавили его от нового кровопролития. Никто из виновников восстания не был удерживаем; когда же донесли Суворову, что члены бывшего революционного правительства спасаются бегством, то он не велел никого останавливать, и сказал при этом: «Пусть себе бегут; то не мое дело». Все пленные, захваченные в Праге, были отпущены.
За взятие Варшавы Суворов возведен в чин фельдмаршала, причем императрица писала ему: «Вы знаете, что я не произвожу никого чрез очередь и никогда не делаю обид старшим, но вы, завоевав Польшу, сами себя сделали фельдмаршалом». Дело в том, что Суворов производством в фельдмаршалы обошел девять старших генералов; вот почему он особенно обрадовался этому повышению, и как ребенок прыгал через стулья, приговаривая: «Перескочил, перескочил»…
Суворов около года оставался еще в Польше, чтобы утвердить спокойствие и порядок в новоприобретенных Россией областях. Здесь уже является он не простым воином, но правителем целого края, государственным человеком и политиком. Дела польские в то время обращали на себя внимание целой Европы: король прусский прислал Суворову знаки обоих прусских орденов (красного и черного орла); император Леопольд прислал свой портрет, украшенный бриллиантами; императрица Екатерина пожаловала ему алмазный бант к шляпе, три пушки и богатое имение Кобринское. Казалось, наконец Суворов достиг вполне цели своих честолюбивых мечтаний: слава, почести, любовь войска, благоговение целого народа – чего более можно желать? Но Суворову оставалась еще одна мечта, еще одно несбывшееся желание: честолюбивое воображение его стремилось на Запад: «Матушка, пошли меня бить Французов», писал он к императрице из Польши. Какова же была его радость, когда узнал он, что действительно императрица Екатерина вознамерилась послать войско свое на помощь Австрии, и что начальство над этим войском решилась вверить ему.
Суворов отправился в Петербург; путь его был подобен торжественному шествию; везде народ толпился взглянуть на знаменитого героя. В Петербурге он принят императрицей милостивее, чем когда-либо: Екатерина Великая по целым часам беседовала с ним в кабинете, совещалась с ним о делах европейских, выслушивала с доверием и любопытством его смелые обширные планы. В начале 1796 года Суворов отправился в Тульчин, где была главная квартира екатеринославской дивизии, и занялся деятельно обучением своих войск.
Суворов, как уже сказано было, обучал войска по-своему; а потому, кажется, не лишним будет здесь сказать несколько слов о том, в чем именно состояла знаменитая суворовская тактика. В сущности, он не изменил ни в чем общепринятого в то время порядка в построении войск и в образе их действий: но как во всех своих кампаниях, и против польских конфедератов, и против турецких толпищ, предпочитал он действовать наступательно, даже в тех случаях, когда по общему положению армий приходилось ограничиваться целями оборонительными: то естественно он должен был и в тактических действиях своих предпочитать натиск холодным оружием тогдашнему ничтожному действию огнестрельному и оборонительным позициям. Поэтому все обучение войск заключалось у Суворова в том, чтобы приучать их к смелому, стройному натиску; отсюда столь известное выражение его: «Пуля дура, штык молодец». Не занимаясь вовсе утонченностями тогдашней линейной тактики, доведенной в Пруссии до педантизма, Суворов заботился лишь о том, чтобы войска его ходили в штыки твердым шагом и в сомкнутой массе. Все учения его были подражанием настоящему бою: для этого строил он иногда одну часть войск против другой, обыкновенно развернутыми линиями, в шахматном порядке, и после непродолжительного, но живого огня, приказывал идти в атаку пехоте на пехоту, кавалерии на кавалерию и на пехоту. Никогда не останавливал он идущих в атаку войск; чтобы приучить кавалерию врубаться в пехоту, приказывал он эскадронам проскакивать сквозь вздвоенные ряды батальона. Маневр этот был небезопасен; а потому иногда вместо людей ставились соломенные чучела. Иногда же позиция неприятельская условно обозначалась каким-нибудь рвом или плетнем, иногда строились по всем правилам укрепления, ставились в них пушки и производился примерный штурм. Особенное внимание Суворов обращал на сомкнутость рядов: проезжая мимо строя пехоты верхом, вдруг поворачивал свою лошадь на людей: если солдаты, забывшись, раздадутся и пропустят его, то он крайне сердился, называл их «немогузнайками», «рохлями»; если же, напротив того, ряды сомкнуты плотно плечами, Суворов хвалил их молодцами, разумниками, и приговаривал: «Подвижная крепость! И зубом не возьмешь!..». Учения производились очень живо, быстро, и потому продолжались обыкновенно не более полутора часа. Суворов никогда не бранил ни солдат, ни офицеров; но по окончании учения, любил держать речи, давал пространные наставления, или повторял любимые свои поговорки. Войска знали уже наизусть правила суворовской тактики; правила эти были даже собраны в письменном наставлении, известном под именем военного катехизиса или поучения солдатам и вахт-парада; оно состояло все из отрывистых фраз, намеков иди условных терминов, которые принадлежали одному Суворову и понятны были только его войскам (см. прилож. VIII). Вот образчики этой суворовской теории: «Каблуки сомкнуты, подколенки стянуты! Солдат стоит стрелкой. Четвертого вижу, пятого не вижу. Военный шаг – аршин, в захождении – полтора. Береги пулю на три дни, а иногда и на целую кампанию, когда негде взять. Стреляй редко, да метко, а штыком коли крепко. Пуля обмишулится, а штык не обмишулится. Береги пулю в дуле! Трое наскочат: первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун!»… «Обывателя не обижай: он нас поит и кормит; солдат не разбойник. Святая добыч: возьми лагерь – все ваше!.. Без приказу отнюдь не ходи на добыч!»… и т. д.
В 1796 году, когда Суворов прибыл в Тульчин и когда все знали уже о намерении императрицы отправить войска на помощь Австрии, Суворов сделал некоторую новую прибавку к своему катехизису: «Безбожные, ветреные, сумасбродные французишки убили своего царя!.. Они дерутся колоннами, и мы, братцы ребята, должны учиться драться колоннами»… Тогда-то Суворов начал учить войска ходить в атаку в колоннах. Не должно однако же думать, что это был такой же правильный строй, какой ныне известен у нас под именем колонн к атаке; тогда войска атаковали сомкнутой походной колонной, которой фронт изменялся, смотря по обстоятельствам. Даже и прежде, в лесистых дефилеях Польши, или на штурме турецких крепостей, Суворову приходилось, по необходимости, производить натиск в колоннах: но это было делом совершенно случайным, и долго еще, как в наших, так и в германских войсках, исключительно боевым порядком оставался развернутый строй.
Большая часть и 1796 года прошла в приготовлениях к походу армии Суворова за границу. С нетерпением ожидал фельдмаршал повеления о выступлении. Следя внимательно за быстрыми успехами Бонапарта в Италии, старый Фельдмаршал говорил иногда: «Ох, далеко шагает мальчик: пора бы унять его»… (см. прилож. IX). Но вместо ожидаемого повеления, вдруг получает он роковую весть о кончине великой императрицы, неизменной его покровительницы и благодетельницы (см. прилож. X).
Новый император был до сего времени весьма милостиво расположен к старому герою. Еще великим князем, он удостаивал Суворова благосклонными рескриптами. По вступлении на престол государь писал ему 15 декабря 1796 года:
«Поздравляю с новым годом и зову приехать в Москву к коронаций – если тебе можно: прощай, не забывай старых друзей» (см. прилож. XI).
Но милостивое это расположение монарха вдруг изменилось: причиной тому были те нововведения, которые император начал производить в войсках с первого же дня вступления своего на престол. Старики, привыкшие издавна к прежнему порядку службы, естественно находили стеснительными для себя многие из новых постановлений, имевших преимущественно целью – ограничить произвол и искоренить вкравшиеся злоупотребления. Но государь строго подтверждал, чтобы все новые постановления были исполняемы во всей точности. Как ни тягостно было отвыкать от старого, однако же мало-помалу во всей армий учреждался новый порядок. Один Суворов, с свойственным его характеру упорством, не скрывал своего неудовольствия, и даже позволял себе насмехаться над некоторыми из нововведений, как-то над пудрой, буклями эспонтонами (см. прилож. XII). По всем вероятиям, шутки старого фельдмаршала дошли до самого государя: на это нашлось довольно людей недоброжелательных, которые обрадовались случаю погубить Суворова. Но главная и открытая причина; навлекшая на него гнев монарха, состояла в том, что фельдмаршал медлил приведением в исполнение некоторых новых постановлений, несмотря на неоднократные ему подтверждения. Между прочим, желая уничтожить существовавшие при генералах многочисленные свиты, отвлекавшие множество офицеров из строя, государь определил точными штатами число лиц в штабе каждого начальствующего лица; а всех излишних затем офицеров повелел возвратить немедленно в полки. Относительно производства офицеров, перемещений их, отпусков, увольнений, положены вновь точные правила. Также запрещено употреблять воинских чинов на частные работы, по домашним делам или в курьерские должности. Новые постановления эти были подтверждены Суворову высочайшим рескриптом от 10 декабря 1796 года и письмом графа Ростопчина от 15 декабря (см. прилож. XIII). Но едва повеления эти дошли до Суворова, как государь узнал, что в Петербург прислан фельдмаршалом адъютант с одними частными письмами, и что прежний штаб его еще не распущен. По этому случаю Суворов получил следующий высочайший рескрипт от 2 января 1797 года:
«Граф Александр Васильевич! С удивлением узнал я присылку от вас сюда адъютанта вашего капитана Уткина с одними только партикулярными письмами. Почитая употребление таковое неприличным ни службе, ни званию офицерскому, с равным же удивлением вижу, что вы по сю пору не распустили штаба своего. Я приказал здесь упомянутого адъютанта вашего определить в полк, а вам предписываю остальных адъютантов и прочих чинов, в штабе вашем находящихся, с получением сего, тотчас перечислить в состоящие под вашей командой полки и к оным их немедленно отправить; да и вообще воздержаться от употребления офицеров в несвойственной службе и званию их должности, что наблюдать имеете и за подчиненными вашими. Пребывая вам благосклонным»… (см. прилож. ХIV).
Несколько дней спустя, 14 января, последовал новый рескрипт, на имя фельдмаршала:
«Господин генерал-фельдмаршал граф Суворов!
С удивлением вижу я, что вы без дозволения моего отпускаете офицеров в отпуск, и для того надеюсь я, что сие будет в последний раз. Не меньше удивляюсь я, почему вы входите в распределение команд, прося вас предоставить сие Мне. Что же касается до рекомендации вашей, то и сие в мирное время до вас касаться не может; разве в военное время, если непосредственно под начальством вашим находиться будет. Вообще же рекомендую поступать во всем по уставу. Впрочем вам доброжелательный…» (см. прилож. XV).
Вслед за тем прибыл вновь в Петербург офицер курьером от Суворова, и снова государь писал фельдмаршалу 23 января:
«Господин фельдмаршал граф Суворов Рымникский!
Заключая по присланному от вас донесению, что вы не получили еще повелений Наших, о неупотреблении офицеров в курьерские должности, для примера другим приказали отправленного от вас капитана Мерлина поместить в Ригу в гарнизонный полк. Удивляемся, что вы, тот, коего Мы почитали из первых к исполнению воли Нашей, остаетесь последним; а как достоинство должно быть поддерживаемо временем, то и надеемся, что вы впредь не доведете Нас до сомнений в оном…»
Одно из полученных от Суворова донесений возвращено ему с отметкой непонятных двух мест и с «напоминовением долга службы»; вмисте с тем повелено ему немедленно прибыть в Петербург (см. прилож. XVI). Между тем Суворов прислал прошение об увольнении его от службы; но еще прежде чем прошение это дошло до Петербурга, он был уже отставлен 6 Февраля 1797 года (см. прилож. XVII).
В марте 1797 года Суворов переехал из Тульчина в свое Кобринское имение; но 23 апреля прибыл туда из Петербурга нарочный с высочайшим повелением фельдмаршалу жить в новгородском имении Кончанском. Суворов с тем же присланным немедленно отправился в путь (см. прилож. XVIII).
Село Кончанское – родовое имение Суворовых, находится в самой глуши Новгородской губерний, в северо-восточной части Боровицкого уезда, в Сопинском погосте. Здесь знаменитый герой Рымника, Измаила и Праги поселился в совершенном уединении, под присмотром полицейского чиновника (см. прилож. XIX). Тяжко было такое изгнание для человека честолюбивого, но Суворов перенес свое несчастье истинным христианином; сохраняя обычную свою твердость духа, он проводил часы одиночества над книгами и внимательно следил за ходом политических событий; однако и здесь, в глуши деревенской, не переставал быть тем же чудаком, каким привык уже показываться при дворе и перед войском: он вмешивался в крестьянские забавы, играл с деревенскими мальчишками, а в праздники читал в церкви апостол, пел на клиросе и звонил в колокола.