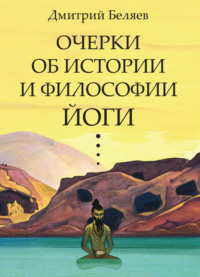Kitobni o'qish: «Очерки об истории и философии йоги»
Посвящается моему дорогому отцу,
который, подобно Будде,
умел хранить мудрое молчание
© Беляев Д.Я., 2025
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2025
Предисловие
Что думает мрамор, из которого скульптор высекает шедевр?
Ж. Кокто. Орфей
А что если и самого мрамора ещё нет, впрочем, как не родился ещё и скульптор, как быть тогда?
Сколько нужно прочесть книг, повестей и текстов, предложений и заметок, комментариев и цитат, чтобы стать (наконец) мудрым? А сколько из всего этого объёма текстов по-настоящему необходимы человечеству для этой мудрости? В чём вообще заключается основной смысл или фундаментальная задача любого текста?
Перед глазами читателя сегодня оказался любопытный текст. Мне удалось его прочесть дважды, в чём-то не согласиться с автором, чем-то восхититься, но в конечном итоге заключить: текст стоит прочтения.
Как я это понял?
Артур Шопенгауэр рассуждал о том, что существует два рода писателей: одни пишут ради предмета, другие ради самого процесса письма, в конечном итоге, ради заполнения бумаги. Дмитрий пишет, конечно, ради самого предмета, который ему в первую очередь дорог и уже во вторую – достаточно известен.
У меня вызывал опасения сам замысел Дмитрия писать о философии йоги, пусть даже очерки, причём о её истории. Как отмечает сам писатель, «индийская традиция абсолютно не приемлет какую-либо историчность». Принцип древности – вот основной инструмент для понимания этой традиции. Однако писатель поставил для себя высокую цель – постараться стать нашим проводником на пути дружбы, или больше, как бы сказал Конфуций, – взаимности с индийской традицией. В этом смысле текст вышел по своей направленности сугубо философским.
Йога, дзен, дхарма и карма, упанишады и веды – это понятия, с которыми сегодня знакомы очень многие, но знакомы не близко. Одной из основ герменевтики Х. Г. Гадамера был тезис о принципиальной возможности объяснения при наличии знания и понимания. Соответственно, если человек не способен объяснить то, что якобы понимает, следовательно, по мысли Гадамера, человек не знает предмет своего рассказа. Шибболет часто выдает тех, кто говорит об индийской традиции: повторяются одни и те же термины, события, обороты речи, своеобразная аура загадочности и тайны, которая так и не раскрывается перед читателем.
Писатель в этом тексте избрал иной подход, чего только стоит изложение похождений Вишну в пятом очерке. Что касается других очерков, то в первом нас ждёт знакомство с некоторыми важнейшими понятиями традиции, среди которых и Дхарма, с философской рефлексией и попыткой найти пересечения с другими традициями. Второй очерк посвящён шести ортодоксальным школам Индии. Третий знакомит нас с Буддой и Нагарджуной – тем, кто видит, по мнению К. Ясперса, вещи в их пустотности. Четвёртый очерк вновь поставит перед нами вопрос о необходимости изучения биографии автора текста или корпуса текстов, в случае, когда говорить об этой биографии трудно, как при наличии двух Патанджалей. Если читатель вспомнит о софизме «Рогатый» и главном приёме, на котором он строится, то четвёртый очерк подарит новое осмысление идеи об обладании и необладании тем, что нам не принадлежит и никогда не принадлежало в контексте идеи астейи. Пятый очерк поведает не только о похождениях Вишну, но расскажет о «Бхагаватгите». Шестой очерк расскажет о многом, в частности о мраморе, что упомянут в эпиграфе к этому предисловию. Под конец текста писатель делится своими соображениями и идеями о джедаизме. Этим заканчивается текст, но «Принцип древности» открывает нам мудрость, что конец был началом, а начало и было конечной точкой: Веды и Упанишады содержат в себе абсолютную истину, таково представление об этих текстах тех, кто её разделяет.
Так какой же в конечном итоге смысл текста, если истина есть (её не может не быть), она известна и абсолютна? Если мы говорим вслед за Шопенгауэром о тех, кто пишет ради самого предмета, то правдоподобным кажется ответ – понимание. Конфуций будет и здесь к месту: взаимное понимание между писателем этого текста и читателями.
Писатель в грядущем тексте проявляет заботу о читателе: рассказывает о культах, о которых не принято рассказывать при первом знакомстве. Также старается нас наставить на путь истинный в понимании тантры, которая в представлении рядового обывателя потеряла свой изначальный посыл. Что увидит в этой заботе читатель – вопрос риторический. Однако раз писатель решил говорить о предмете, стало быть, тексты, которые он встречал до этого момента, были иными, раз потребность в этом он замечает.
Чем точно не является этот текст? Попыткой апологии, что существует индийская философия, у неё есть история и прочие атрибуты. Это авторская попытка рассказать, быть проводником в запутанной вследствие особых исторических особенностей традиции. Как начальным этапом в знании четырёх истин Будды является видение, так важна базовая подготовка в деле понимания и в попытке быть самому себе светильником.
Если у вас есть желание понять эту традицию, разобраться в ней, эти очерки могут сыграть здесь свою положительную роль. А также если вам интересно, почему столько людей посвятили свою жизнь этой традиции, как она на них повлияла. О чём молчат эти люди, или, вернее, почему их ответы кажутся такими путанными при прямоте вопросов – этот текст может способствовать и этому пониманию.
Зачем такие глыбы философии, как А. Шопенгауэр, который обращался к идеям буддизма, Ф. Ницше, который называл буддизм гигиеной, К. Ясперс, который поставил Будду и Нагарджуну в ряды «великих философов», это делали? В чём было их откровение и почему они занимались исследованием этой традиции? Об этом тоже может поведать этот текст, пусть и опосредованно.
Мартин Бубер, представитель «философии диалога» и мыслитель XX века в своей работе «Я и ты» писал: «Мы не знаем, приводит ли Будда к цели – к избавлению от неизбежности всё новых перерождений. Несомненно, он приводит к промежуточной цели, которая стоит перед нами, – к установлению единства души». Таким образом, не просто научным интересом, а предпосылкой некоторых философских текстов становилась индийская традиция.
Возможно, чтение этого текста станет для вас формой медитации. Расскажу вам историю, которой поделился со мной преподаватель во времена моей учёбы в аспирантуре. Знаете ли вы, кого в древности называли пупкосозерцателем? По-латински пупком назывался округлый конец стержня, к которому крепился крайний лист свитка папируса или два крайних листа. Пупкосозерцателем был не йогин, что выбрал для дхараны пупочный центр, а тот, кто прочёл книгу до конца. Эту информацию нельзя проверить путём простого поиска в интернете или энциклопедиях. Теперь это ваша история. Или всё-таки по-прежнему моя? Была ли она моей когда-то? И была ли она именно такой, какой я её рассказал? Или история всё ещё принадлежит моему учителю и его учителю, что рассказал ему эту историю?
Ясперс укажет на то, что «…получение совершенного познания в состоянии, которое само есть отсутствие мышления, поскольку посредством мышления являет себя как нечто “большее – чем – мышление”» – это позитивная сторона цели некой видимости в мире, что, по его разумению, является чем-то действительным и реальным. Есть и негативная – «…отвержение всей метафизики как знания об ином, противостоящем мне бытии…».
Делать ли что-то во благо всех живых существ или не делать – решать вам, но, если соберётесь делать, важно быть правильно подготовленным. Для этого стоит узнать о традиции больше. Позвольте представить вам подходящий для этого текст.
Кандидат философских наук
Г. С. Андреев
Йог – индийский мудрец, который в глубокой сосредоточенности размышляет о том, как ему развязаться.
Анонимный польский школьник
От автора
«Я не волшебник, я только учусь…» – с лёгкой улыбкой произносит герой известной советской киносказки «Золушка», снятой по сценарию Евгения Шварца. Так вот и я, уважаемый мой читатель, не профессиональный писатель, ибо добываю хлеб насущный совершенно другим трудом. Но писать я люблю, что, если учесть особенности моей биографии, выглядит для меня довольно-таки странно, ибо со времён ещё школьной скамьи с учителями русского языка и литературы мне хронически не везло. Не везло настолько, что я вчистую забыл их фамилии. Особенно отличилась последняя учительница, умудрившаяся надолго отбить у меня всю страсть к сочинительству. И коли я волею случая сумел-таки стать писателем и даже членом союза таковых, то не благодаря ей, а исключительно вопреки её титаническим усилиям похоронить каждое моё школьное сочинение за плинтусом1ввиду неисправимой склонности строптивого ученика к нетривиальным суждениям. Ныне есть все основания полагать, что она уже давно, пройдя через все этапы бардо2, переродилась в форме отломка бивня Ганеши3, коим прославленный слоноголовый бог мудрости записывал за Вьясой4священные Веды5.
Значительно позже, совершенно случайно, по милости фортуны, благодаря накопленной карме6или какой иной прихоти Всевышнего несколько лет назад я взял на себя труд написать небольшой очерк, который представлял из себя квинтэссенцию моего авторского цикла лекций по истории и философии йоги. Как я написал в предисловии к упомянутому очерку, «изучать философию йоги по этим заметкам полноценно не получится, а вот освежить полученные знания перед экзаменом или через некоторое время после – будет в самый раз».
Позднее я не раз задумывался о том, чтобы выпустить полноценный сборник своих лекций, но так и не дал себе труда взяться за перо, пока меня об этом целенаправленно не попросили. Я согласился немедленно и не задумываясь, ибо сразу стало понятно, что эта книга нужна уже не только мне, а ничто так не мотивирует, как осознание востребованности твоих мыслей. Посему выражаю самую искреннюю благодарность Президенту Федерации йоги России Сергею Репину за его веру в мои силы и знания.
Bepul matn qismi tugad.