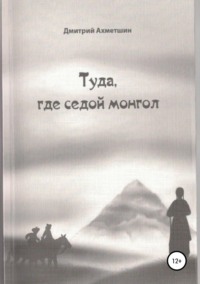Kitobni o'qish: «Туда, где седой монгол.»
Глава 1. Наран.
Наран проснулся оттого, что снова зачесалось лицо.
Сон упорхнул вверх, к отверстию в юрте, стал одной из звёзд. Мальчик лежал, разглядывая полог и выжидая, пока уляжется зверь, который две минуты назад шершавым и болезненным языком вылизывал его лицо. Небосвод качнулся в сторону рассвета – Наран заметил хвост бегущей собаки из четырёх мелких, похожих на семена мака, звёздочек.
Наконец, поднял руку и как можно более отстранённо, чтобы не почуял зверь, потрогал лицо. Шрамы никуда не делись. Один пересекал щёку и левую глазницу, другой, располовинив ухо, исчезал и возникал вновь безобразными бороздами на шее. Провёл пальцем по единственному усу, бегущему по левой ото рта стороне, словно тоненькая струйка крови. Справа что-то повредилось, и, когда пришло время, волоски там так и не показались. Было время, Наран считал отсутствие одного уса главным своим увечьем – теперь же свыкся, как свыкается хромой от рождения с неспособностью бегать.
Чаще всего зверь приходил в виде крота с морщинистым розоватым телом, покрытым короткой шёрсткой. Крот становился на грудь, когти оставляли под кадыком вмятины, как будто Наран был не из мяса и костей, а из сырой глины. Грудь сдавливало так, будто на неё наступила лошадь. Точно такое же чувство было, когда бешеная лисица едва не вырвала вместе с рёбрами лёгкое.
Из маленькой пасти выпадал неожиданно большой язык. Словно червь, полз он по щекам мальчика, сдирая кожу и впитывая в себя сукровицу, а тот лежал и боялся пошевелиться. Вдруг животному приспичит вцепиться зубами ему в нос?..
Во сне шрамов не было, но по пробуждении он их неизменно находил – старые и уродливые, отчаянно чешущиеся под загрубевшей коркой.
В шатре ещё все спали, и дыхание сна смешивалось с остывающими углями. Наран, как младший сын, не имел пока ещё права на собственный шатёр и потому ютился в семейном, возле самой перегородки, что отделяла мужскую половину от половины для жён и дочерей. Несмотря на то, что был уже взрослым по меркам кочевых племён. Шатёр будет сшит силами аила, когда хотя бы одна жена родит ему хотя бы одного сына.
Пока же у Нарана не то, что сына, – жены не было. В его положении завести её было не так-то просто.
Войлочная постель накопила за ночь тепло, лежать было приятно, и даже насекомые, обычно очень кусачие в начале ночи, угомонились. Страшный сон всё ещё свербел в носу, и Наран решил не закрывать глаз и ещё немного полюбоваться на небо. Осенью, даже когда сезон дождей растает во рту Великой степи, будто спелая ягода или комочек снега, нечасто получается увидеть такое чистое небо.
– Мы, – говорили старики, – дети степи. Наш народ приручает другие народы, чтобы жить с ними в согласии. Народ овец даёт нам шерсть, народ коз и кобылиц – молоко, а жеребцы возят нас на своих спинах. Мы даём им организованность и крепкую руку, на которую они всегда могут положиться.
Наши лица плоские, как степь. Мы и есть отражение степи, мы и есть её любимые дети.
Наран часто думал, что теперь он не похож на дитя степи. Мама-степь не может быть так уродлива, её не могут пересекать столько оврагов и пучить, как живот больного младенца, столько всхолмий. Плавного течения её рек не вправе нарушить никто. Она не может вонять гнилым мясом.
В первые дни после несчастья Наран думал: может, мама-степь не примет его обратно, и быстрый конь скинет его на землю. Или коршун выклюет второй глаз, и аил бросит его умирать. Но ничего такого не случилось.
В степи главным хищником был человек, на быстроногих конях носился он по её бескрайнему покрывалу. И ни один зверь не осмеливался подойти к грозным юртам, о которые спотыкался даже ветер, а солнце почтительно короновало их тенями, похожими на высокие меховые шапки.
Однако лисица, которую ради забавы решили загнать несколько мальчишек, об этом не знала. Поначалу охотники действительно видели только её хвост, рыжий с белым кончиком, и уже примерялись, кто ловчее может за него ухватить. На троих у них имелся тупой нож в ножнах и две палки, одна из которых была «счастливой», поскольку Наран сбил ей двух или трёх странников-голубей. Это слово он вырезал на палке, а ещё сделал отцовским кинжалом удобную ручку, а ещё пустил по всей её длине простой узор, похожий на след, который остаётся в траве от убегающего зайца.
Лисица, обежав куст орешника, кинулась на своих преследователей. Друзья бросились врассыпную, побросав оружие, а Наран, не успевший сообразить, почему вместо лисьего хвоста перед лицом щёлкают клыки, грохнулся на спину.
Сначала она искусала руки. Кровь брызгала лисице на грудь, залила ей все уши и оставила капли на языке в глубине раззявленного рта. Потом метнулась к груди, разорвав одежду и раскорябав до мяса всю правую половину тела. Может быть, её привлёк стук сердца, может быть, хриплое дыхание. Наран заорал, и тогда она вознамерилась откусить ему язык, но промахнулась, и мальчик лишился уха, от которого остались только лоскуты.
Возможно, брат Тенгри, бог шутих, отметил тот ореховый куст какой-то своей меткой, потому как один из мальчишек, бросившийся было в слезах наутёк и случайно наткнувшийся на гибкие ветки, развернулся и через миг голыми руками уже отдирал лисицу от Нарана.
Животное, словно сообразив, что эти двое несколько покрупнее полёвок, скрылось в кустах. Наран лежал до тех пор, пока друзья не привели помощь. Когда-то здесь прошёл табун, и под жухлой степной травой, под мелкими белыми цветами ромашки под лопатки ему вдавились отпечатки копыт. Наран навсегда запомнил это ощущение: жёсткая, уродливая, как карлик, земля под мягкими ромашками, и ты совсем не имеешь сил с неё встать или хотя бы чуть-чуть подвинуться.
Мальчик лежал и чудом уцелевшими глазами смотрел в небо. Было ясно, и ветер выскреб его, как воин своё оружие перед боем, от самых крошечных облаков, заточил солнечными лучами. На точки он поначалу не обратил внимания. Может, тот же ветер несёт в вышине из далёких краёв листья. Но больно странен их полёт… кружат и кружат над ним, две, нет, четыре точки, вот они приблизились и стали крестиками. Грифы.
Наран захотел зажмурится, но с веками его что-то сделалось, так, что он не мог даже моргнуть. Если сейчас не придут взрослые или не вернутся друзья, падальщики расклюют ему лицо. Проделают своими, похожими на топоры, клювами в черепе дыру и будут клевать мозг. И воспоминания так же, по кусочкам, будут исчезать. Их растащат по разным уголкам степи птицы…
Прошла долгая, размазанная по предзакатному небу минута, и мальчик услышал хлопанье крыльев прямо рядом с собой. Двое ещё кружили, примериваясь ухватить землю когтями, а двое уже здесь, из клювов их разит гнилью. Наран сделал попытку пошевелить руками, но смог только приподнять кисть, зато рот наполнился рвотой. Трава беспокойно зашевелилась, и гриф отпрыгнул, движениями – ну точь-в-точь большой жирный перепел, но сразу же подскочил ближе, разглядывая свою жертву то одним глазом, то другим. Чуть поодаль опустился чеглок и принялся склёвывать оставшуюся после схватки на траве кровь – Наран стал наблюдать за ним уголком глаз, потому что следить за падальщиком было слишком страшно.
Мир вдруг зашатался, степь будто одеяло, с которого вздумали стряхнуть сор. Звук прокатился внутри черепа, как крик внутри тесного шатра. И только потом их, своих двух посыльных коней, догнала боль. Мальчик попробовал заорать, но только захлебнулся рвотой. Он видел голову грифа прямо над собой, облезлую и свалявшуюся шерсть на голове, маленькие чёрные глазки и такие же точки-ноздри. Вонь ударила по ноздрям, и он смог наконец закрыть глаза.
Это движение, единственное, в чём повиновалось тело, произвело неожиданно сильный эффект. Было слышно, как птица отпрыгнула, как тяжело захлопали крылья. И только потом до Нарана докатился стук копыт и возбуждённые голоса. Казалось, звук шёл не из воздуха, а из земли, проникая в голову через макушку.
Наран видел грифа в воздухе всю дорогу, пока его везли на спине коня в кочевье. Конь чувствовал запах крови, пыхтел и рвался с поводьев, но взгляд и остатки внимания мальчика были прикованы к птице. Его же он видел через отверстие в юрте шаманов, когда лежал неподвижный и закутанный в одеяла, с компрессами на лице. Вновь и вновь обращал взгляд к небу и надеялся, что хищник наконец оставил его одного. Но потом круглое окошко-дымоход перечёркивал стремительный полёт, и Наран отворачивался с тем, чтобы вновь с надеждой выглянуть во внешний мир через некоторое время.
Может быть, испробовав крови, этот падальщик решил, что они двое связаны навечно.
На четвёртый день у Нарана вытек левый глаз. Словно молоко из треснутой чашки или озеро, берега которого подпортило засухой. Этот глаз видел всё хуже и хуже, Нарану казалось, что он видит куда лучше сеточку голубых капилляров, чем то, что за ней, и наконец всё исчезло совсем.
Мама сидела рядом, не отходя ни днём ни ночью, её сёстры носили вымоченные в проточной воде компрессы и прикладывали целебные травы. Щёку зашивали нитками, вытянутыми из конских сухожилий. Ради этого пустили на мясо лучшего жеребца его отца, горного верхолаза редкой в этих краях породы, который должен был принадлежать, когда мальчик подрастёт, Нарану.
– Это был хороший конь. Потомок тех коней, которые ходят по горным тропам наравне с дикими баранами и смотрят в глаза Тенгри. У него самые крепкие и самые толстые жилы, ни у одного из наших степных коней такого нет. Это был мой любимый конь, но ты – мой любимый сын. Пусть теперь всё это будет в одном теле.
Отец говорил, что теперь у Нарана будет сила жеребца. Что он сможет перекусывать и гнуть зубами железо, а питаться в походе ковылём. Что он сможет бежать без устали три дня и две ночи. Что горы он сможет перескакивать с той же лёгкостью, что и ручейки.
На второй день начала слушаться челюсть. Язык осмелел и стал выползать из своей норки между уцелевшими зубами. На груди образовалась твёрдая, как рыбья чешуя, корка, которая сошла только через два месяца.
Когда Наран набрался достаточно сил, чтобы подняться с войлочной постели, миновала зима. Настал период одурелых птичьих криков, разлившихся ручьёв, когда рыба, отродясь не водившаяся в тонких, как хвост трясогузки, степных речках, выпрыгивала из воды, чтобы блеснуть на весеннем солнце обновлённой чешуёй.
Как-то изменилось отношение к нему и у взрослых, и у детей. Получить шрам в схватке с диким зверем считалось почётным, но если ты ребёнок и у тебя половина лица в таких рубцах… Друзья-приятели его теперь побаивались, хотя с радостью бы, наверное, взяли в любую свою игру. Вот только Нарана не тянуло к детским играм.
Взрослые всё чаще звали его к костру. Отец сажал к себе на колени, водил пальцами по зажившему обрубку уха. Когда отец был на охоте или же в дозоре, Наран всё равно коротал вечера у общего костра. Как пересохшая земля впитывал россказни взрослых, считал, что тихо робеет в их обществе, сидя на коленях у отца или за спинами монголов, на самом краю света и тени, где власть чахлого степного костра сходила на нет, но скоро понял, что никакой робости, свойственной мальчишкам перед взрослыми мужчинами, не испытывал. Напротив, они испытывали перед ним скованность.
Падальщик клюнул его в висок, и позже, когда шрамы зажили, Наран мог нащупать там большую отметину. Шаман, который зашивал ему раны, сказал:
– Просто удивительно, что ты не лишился обоих глаз и остался жив. Это знак Тенгри. Грифы стараются сразу выклевать глаза и добраться через глазницы до мозга. И даже гиены, живущие в пустынях на западе, суть дикие собаки, пытаются сразу перегрызть жертве горло.
Он рассматривал отметину, и кончики усов щекотали Нарану шею.
– Какой знак?
– Кто знает? Ты должен разгадать его сам.
– Я должен был быть съеден заживо, – сказал Наран. Спохватился и задавил в голосе плаксивые нотки.
Шаман выпрямился, украшения на его шее многозначительно звякнули. Он улыбнулся, и Наран увидел застрявшие с обеда в просветах между зубами волокна мяса. Зубов у него осталось всего ничего: четыре сверху и что-то около того снизу. Шаман уже достаточно старый, и Нарану подумалось, что по наслоившейся еде можно посчитать его возраст.
– Мы достаточно задабриваем Тенгри. Мы даём его идолам много жертвенного мяса, совершаем ежедневные поклонения. Сейчас уже не то голодное время, когда приходилось выбирать, отдать ли кости предпоследнего барана Тенгри или накормить двух умирающих женщин. Не-ет. Сейчас он не даст погибнуть сынам своего племени.
Наран вспомнил позапрошлую зиму – самую страшную зиму в его жизни и в жизни многих молодых из аила. Солнце не показывалось из-за туч целыми месяцами, с самой ранней осени, так, что дети помладше спорили, круглое оно, или же квадратное. А совсем маленькие слушали рассказы стариков о белом глазе Тенгри, раскрыв рот, как будто сказки. Было очень холодно. Из под снега давно уже всё было выедено, овцы и другой скот тощали без еды, но аил не смел тронуться с места. Потому что знали: тронутся – замёрзнут в дороге насмерть. Стоило выйти из шатра, как начинала стыть в венах кровь. Пока имелось чем жечь, жгли круглые сутки костры, а потом начали расширять входы и заводили прямо внутрь коней, чтобы можно было греться их теплом. У лошадей, что слабли настолько, что не могли больше даже стоять, резали жилы на шее и выпивали ещё горячую кровь.
За одну зиму стадо уменьшилось с сотни голов до четырёх десятков.
Мальчик не осмелился спросить шамана: с чего вдруг Тенгри решил пожалеть мальчишку, если совсем недавно не щадил ни людей, ни животных, настолько уверенный был его тон, настолько властные жесты.
Вместо этого Наран спросил о грифе. Их много носилось в безграничном пространстве над степями, и нельзя было взглянуть в небо без того, чтобы не увидеть одного какого-нибудь, кружившего у самых усов великого Бога.
Наран не знал только, тот самый ли это гриф или какой-то другой, и следит он вовсе не за ним.
Шаман взялся за кончики своих усов и задумчиво потянул их в разные стороны. Усы у него пышные, словно конские хвосты, и если бы шаман не был шаманом, что само по себе уже предмет для гордости, он гордился бы этими усами.
– Видишь ли, память у них устроена так, что складывается из частичек воспоминаний тех, кому он выклевал мозг. Таких мелких, как семена мака. Поэтому старые грифы часто забываются и начинают подражать коровам или лошадям, или мышам с кроликами. Или даже вести себя как люди. Ни одна из старых птиц не умирает своей смертью – всё либо от зубов степных собак, либо под копытами лошадей, когда пытаются затесаться в табун.
– Значит, он теперь помнит то же, что я?
Шаман взглянул на мальчика с иронией.
– Твои мозги, вроде бы, на месте. Этот гриф улетел в тёплый край, мальчик мой, к своему большому брату – Пустыне, которая даже зимой прокормит его мёртвым тушканом или сломавшим ногу верблюдом. Обратно он вернётся, но про тебя уже не вспомнит. Это не очень хорошая новость, если ты жаждешь мести, правда?
Наран помотал головой и ничего не сказал.
Небо в отверстии стало светлее, а угли, напротив, съёжились, словно от холода, и распушили белую шёрстку пепла. Хорошо было бы посмотреть, как Тенгри откроет свой один глаз, и закроет второй – белый, и без того уже наполовину прикрытый веком. Редко когда верховный Бог наблюдает за ночным миром пристально и неусыпно, чаще всего жмурится в полудрёме, слушая дыхание спящих и шорохи ночных существ.
Наран потянулся к завязкам шатра, но остановился на полдороге. Незачем выпускать тепло. За это ему спасибо не скажут. А между тем, этот день он должен провести так, чтобы не запомниться никому ничем дурным. Даже такой мелочи, как толика тепла в этом промозглом предутреннем мире, стоит уделить внимание.
Зверь угомонился, ушёл вместе с остатками сна, волоча за собой свой крошечный кротовий хвостик. Вот уже семь лет, как Наран носит на себе эти шрамы. Может, когда-нибудь удастся к ним привыкнуть, думал он пять лет назад. Три года назад его снедала злость. Думал, очень трудно с таким украшением найти себе жену. Он вырос среди эти людей, и они относились к нему с пониманием до тех пор, пока не приходили от его отца за их дочерьми сваты.
Год назад он решил: настанет время, когда я уйду из аила и спрошу обо всём самого Тенгри. Не этих бестолковых идолов, у который в голове один большой пук травы, такой, что сухие стебли вылезают прямо изо рта, и не шаманов, которые подливают ему тёплого молока жалости, но и на миг не приближают к истине.
А вот теперь подумал: дальше тянуть уже нет сил.
– На севере, – говорили старики, – спина Йер-Су, матери-земли и первой кобылицы, покрывается болезненной коркой. Было время, когда степь простиралась и туда, но потом Тенгри, её всадник и любовник, решил проехаться верхом, посмотреть, как красиво низвергается водопадами вода с края мира. Дорога была дальняя, и на обратном пути от седла появились первые раны. А за ночь большие небесные оводы раскусали их ещё больше, до самого мяса. Рубцы эти заживают тысячелетия, и Йер-Су уже никогда не будет такой же красивой, как раньше. Гряда их тянется, доходили слухи, на север всё дальше и дальше, и только мистическое море, такое холодное, что целые глыбы льда плавают там, когда-то встаёт на их пути. Земля там кричит от боли, и где-то посреди этой болезненной корки можно найти торчащие наружу земляные кости.
Небо чаще, чем куда-либо, обращает туда своё лицо. И лицо его в эти моменты хмурится, и брови-тучи наползают на голубые глаза. Он обдувает землю ветрами, лечит её солнечными лучами.
«Наверное, моё место там», – думал Наран. – Я такой же изуродованный, как степь. Здоровое – ко здоровому, а больное к больному. Это естественный ток жизни».
Он думал и по-другому.
– Может быть, там я смогу поговорить с Тенгри, – говорил он своему другу, когда они вдвоём, бывало, уходили к табуну, посмотреть на лошадей, смерить следы копыт своими ступнями и отдохнуть от суеты аила.
Друга звали Урувай, и больше всего он походил на пузатого грызуна в середине осени, когда задняя и передняя его части несоразмерно разные. Серая шёрстка покрывала руки, а на груди, бывало, застревали ниточки и ворсинки от войлока. И даже привычка складывать руки на животе, казалось, досталась от какого-то животного. Вечно робкое выражение на лице, белые, трясущиеся губы. Урувай выделялся на их фоне поджарых ловких сородичей ростом, размерами и неповоротливостью. С потрясающей непосредственностью он разливал драгоценную воду и робко улыбался потом, когда его бранили, падал с лошади так, будто это самое доступное из его развлечений. Получал по своей неуклюжести раны и смотрел потом на них со смесью страха, любопытства и восторга.
На речи приятеля Урувай жал плечами.
– На это есть шаманы. Твоя работа – всегда быть готовым натянуть лук, на зверя ли или на какого врага. Твоя забота – высекать искры копытами своего коня.
Наран улыбнулся: друг часто говорил так, как будто его устами вещают умершие песняры древности. С самого детства. Это звучало очень забавно. Каждый вечер он, подыгрывая себе на разных инструментах, рассказывает возле костра сказки и предания и весь следующий день говорит словами из этих сказок. Может быть, когда-нибудь сам станет слагать песни. Опишет в них тяжёлую жизнь аила… и грядущее путешествие, в которое вот-вот сорвётся один маленький степной кот.
– Что, по-твоему, скажут старые? У нас мало людей, а ты хороший охотник.
Наран сидел, свесив между коленями ладони.
– Аилу не будет от меня никакого толку. Рано или поздно какой-нибудь дикий зверь завершит начатое той лисицей. Или я погибну в походе. Или меня унесёт река. И тогда все вздохнут с облегчением, хоть и будут для убедительности размазывать по лицу слёзы. Скажут: «Небесный завершил то, что не доделал десять зим назад. Это должно было случиться. Да. Должно было».
Урувай правильно истолковал интонацию в голосе приятеля. Он вскочил, и лошади шарахнулись от него в стороны.
– Я не позволю!.. Да и кто тебя отпустит! А? Кто? Или уйдёшь, как крыса, ночью, собрав в мешок еды и украв коня?
– Послушай меня, друг. Сядь и послушай.
Урувай уже успокоился. Он всегда вспыхивал и угасал быстро, словно костёр на сильном ветру. Уселся. Наран, вскочивший было следом, опустился напротив, поджав под себя ноги. Сначала указал пальцем на живой глаз, потом, для пущей убедительности, оттянул изуродованные веки.
– Я вижу вот этим глазом земной ковыль. Но вторым своим глазом я вижу ковыль небесный. Гриф целился не в глаза, но глаз мой всё равно унёс в своём зобе.
– Но твое сердце здесь, в аиле, – спокойно возразил Урувай.
Это был серьёзный довод. Тем не менее Наран помотал головой.
– Моё сердце горячее и молодое, а лицо – старика. Я хочу отправиться туда, где седой монгол греет руками раны своей возлюбленной. Откуда духи по имени «эхо» доносят твои слова и слёзы до самого Неба. Поэтому там можно говорить только правду, иначе тебя на месте убьёт молнией. Хочу просить Тенгри, чтобы он вернул мне прежний облик. Или, – Наран тайком оглянулся: нет ли рядом идолов? – чтобы забрал в свои небесные степи насовсем, потому что здесь мне не место. Понимаешь?
– Я буду плакать, когда ты уйдёшь, – сказал толстяк.
– Я отправлюсь в большое путешествие. Пойми, я чувствую, что тропы, которыми следует аил, больше не мои тропы. Там нет отпечатков ног моего коня.
– Ты такой уверенный. А я? Что я буду делать?
– Можешь отправиться со мной. Кочевье как-нибудь переживёт без твоих песен.
Урувай всплеснул руками. Посмотрел на ладони и вытер пот о бёдра.
– Давай поговорим об этом ещё раз завтра. Нет! Мы поговорим об этом послезавтра. Хотя лучше бы никогда. Я не хочу терять друга, но я не хочу терять и дом. Почему меня заставляют делать такой жестокий выбор? Кто его придумал? Не Верховный ли Бог?
Он опрокинулся на спину и затряс руками над лицом.
– Кто мне ответит?
– Он сам и ответит, – сказал Наран с улыбкой. – Поехали со мной, и ты тоже сможешь спросить, за что тебе дан такой жестокий выбор.
Урувай уронил руки.
– Я лучше спрошу у шаманов.
Наран выставил вперёд палец.
– Не смей. Если ты так поступишь, всё, что тебе останется – оплакивать нашу дружбу и скорбеть по ней, как по отбросившей копыта кляче.
На том закончился их откровенный разговор. Было самое начало лета, время для путешествия самое удачное, но тогда Наран так никуда и не тронулся. Идея отправиться в путь вызревала в нём и наливалась соком, как семечко ковыля. Его пробовали на прочность ветра, дёргая за волосы и бороду, пробовала на прочность земля, пытаясь выпить все соки обратно.
И вот теперь, в день начала настоящей осени, когда кончился сезон дождей и степная трава выцвела до равномерно-бурого оттенка, идея вызрела до самой сердцевины.
Наран больше не смог заснуть. Он дождался, когда дыхание спящих превратится в сонное предутреннее покряхтывание и зевки, и первым выбрался наружу.
Было уже светло. Вокруг стойбища бродили кони, и мальчишки сгоняли их в табун. Были слышны их резкие крики, да звук рассекающих воздух прутиков. Где-то раздували смоченные росой угли, из шатров вытаскивали просушенный навоз – лучшую пищу для огня. За две недели шатры, казалось, вросли корнями в землю, и земля пустила в них корни, пронизав войлочный пол травой и пропитав приятным запахом своего рыхлого чёрного тела. Шатры будут стоять здесь всю зиму, до тех пор, пока сошедший снег и просохшая под весенним солнцем земля не позволит им двинуться дальше; детские игры, лёгкие прикосновения женских стоп и внушительные шаги мужчин уже превратили колкую траву, достающую иногда до самых бёдер, в мягкий естественный ковёр. На каркасах из прутьев вокруг кострищ сушилось мясо и нанизанная на конский волос рыба, оттуда шёл одуряющий запах. Этим мясом аилу предстоит питаться всю зиму, лишь изредка позволяя себе немного молока или живой горячей крови. Животных требовалось беречь, потому что без стада людям грозит неминуемая голодная смерть.
Под навесами сложены сёдла и верёвки-уздечки, и Наран пошёл проверить, как нежная кожа перенесла ночь. Под утро принялся моросить запоздалый дождь.
Следом за Нараном из шатра появился его старший брат, Таратар. Он зевнул, похлопал себя по животу, оглядывая окрестности и размышляя, стоит ли ему принимать новое утро улыбкой или лучше рассердиться на него за сырость земли и разболевшийся зуб. В конце концов, он поймал лицом солнечные отблески, сладкие, как ягодный сок, и снисходительно пробурчал себе под нос молитву духам.
День обещал быть хорошим.
– Эй, мелкий! – крикнул он. – Что ты там делаешь? Нужно развести огонь.
– Сёдла в порядке, – отозвался Наран. Он исследовал изнанку каждого седла, поднял крылья и внимательно проверил на предмет плесени.
Брат пробурчал что-то наподобие «Ярад» и ушёл в сторону выгребных ям – оправляться.
Таратар был главой их семейства, умелым охотником и храбрым воином. Хотя на их жизни войн не выпало, старики считали, что, например, полвека назад, когда ужасающая жара выплеснула в степи темнокожих южан, вооружённых отделанными золотом копьями и луками, он дрался бы за каждую пядь земли, как тигр. Правда, даже тогда войны не получилось. Южане поискали в степях города, которые можно было бы захватить, и, не найдя, отбыли восвояси. Те, кого не убили лошадиные оводы и змеи. Отца не было на свете уже три года, и прах его давно уплыл с дымом в небесную степь.
Наран смотрел на прямую спину брата, на широкие голые лопатки и пятки, загрубевшие до крепости лошадиного копыта.
Их народ зародился в чреве земли, получив от неё плоть, состоящую из мышц и костей, гордую осанку, черты лица, будто бы вылепленные из размоченной глины руками, и взяв от неба самую малость – пронзительно-голубые или серые глаза и волосы, в которых, как верит всякий обитатель степи, заключено стремление повиноваться ветру и следовать за ним, куда бы он не повёл. Каждый, кто острижёт волосы, мгновенно теряет всякую волю к передвижениям, вообще – всякую волю, и уподобляется цветку, который живёт только до первых холодов, а потом так же покорно принимает смерть. Отросшие волосы по давнему обычаю заплетали в косы и опускали на плечи.
– Хорошее сегодня солнце, – сказал Урувай.
Крупное его тело забрано в лёгкий халат, слегка расходящийся на боку и трещащий при каждом вдохе. Пояса не было, на розовой щеке ещё сохранился след от подушки. Руки испачканы в навозе. Никакую другую работу утром ему не доверяли, да и здесь нужен был глаз да глаз: половина драгоценного топлива рисковала затеряться в траве. Шатёр Уруваева семейства стоял чуть дальше, возле ручья, отличался от остальных искусной, правда, весьма пообтрепавшейся вышивкой сцен кочевой жизни и погона лошадей. Заправлял там грозный его дед, седоусый и с постоянно трясущейся головой, один из старейшин аила. Даже отец Урувая в своё время был у него на побегушках. Семейство Нарана по сравнению с этим древним и почётным родом было очень маленьким.
Наран кивнул. Сказал вместо приветствия:
– Сегодня. Я решился.
Урувай побледнел и, встряхивая кистями и причитая, побежал прочь. Наран отправился заниматься костром.
Поздняя осень – не лучшее время для начала путешествия. Даже для конца путешествия не лучшее: все места для зимовки уже заняты и приходится или проситься к кому-то в аил, или занимать неуютные, продуваемые всеми ветрами, заболоченные стойбища, где до воды придётся ходить по хрупкому льду, а лошадям – вытаскивать из промёрзлой земли луковицы кизила и репейник.
До весны Наран ждать не собирался. Оборвались какие-то корни, связывающие его сердце с аилом, со всеми этими людьми, и Наран получил возможность унести его с собой. И не собирался больше терять ни дня, несмотря на то, что это сердце начинало колотиться от страха каждый раз, стоило подумать о дороге и об одиночестве.
День прошёл так же, как и две недели накануне. Считали лошадей (их получается всё время разное количество, но до тех пор, пока цифра эта больше, чем накануне, беспокоиться не о чем), планировали большую охоту назавтра. Женщины подшивали к зиме шатры, мужчины, расположившись кружком на траве, откуда солнце уже выпарило влагу, делали составные жердины для новых юрт и жевали вчерашние и позавчерашние новости. Иногда бубнёж сходил на нет, и тогда над их кружком поднималась хромая и нестройная, но очень душевная песня.
Детей отправили на пастбища, собирать топливо для костра и ягоды к ужину. Над шатром шаманов курился дымок, и под нестройный ритм барабанов оттуда слышались протяжные напевы.
Наран просился почистить и вычесать лошадей, чтобы удалиться под этим предлогом подальше от посторонних глаз и заняться своим Бегунком, которому предстоит пробежать самый длинный и самый трудный за всю его короткую жизнь путь, но брат отправил его таскать воду.
Там, возле ручья, и нашёл его Урувай.
– Я иду с тобой.
Наран с неприязнью смотрел на ручей и морщился, когда особо ретивые брызги оставляли холодные поцелуи на изуродованных щеках. Опускать руки в ледяную воду не хотелось. Разуваться, чтобы подобраться к воде, не хотелось тоже. Вообще, по аилу положено ходить босиком, но земля с самого утра щипала его за ступни то листом крапивы, то камешком, словно услышала, что с сегодняшней ночи дотянуться до его ног будет очень непросто, и решила отыграться заранее. А кроме того, он ведь действительно готовится к походу, так почему бы не разносить сапоги заранее…
– Ты сказал кому-нибудь?
– Нет. Дедушка спросил, зачем я собираю тёплый халат, и морин-хуур, и свою красную шапочку. Я сказал, что хочу исправиться и собираюсь к весеннему кочевью немножко заранее. Чтобы, когда появится свежая трава и первые одуванчики, не задерживать родственников.
Наран хмыкнул. В любых сборах Урувай был тем, кто умудряется оставить половину вещей валяться на траве, а другую половину – погрузить не на ту лошадь. У любого кочевника способность наводить в вещах порядок сидит глубоко в крови. У Наранова друга глубоко в крови сидит способность обувать на ноги не те сапоги и замечать это только к вечеру.
– Он, должно быть, подумал, что это хороший знак.
Урувай смущённо улыбнулся.
– Дедушка сказал, что мне следует уже начать искать своего коня.
Наран засмеялся и пнул кадку.
– Пожалуй, и вправду стоит. Сегодня батя Ахнар празднует свой очередной седой волос. Будет веселье, после кислого молока всех разморит и потянет в сон. Не думаю, что кто-нибудь будет способен ругаться сильно в таком состоянии. Мы выедем в ночь или ранним утром.
В большом шатре жил старейшина с пятью жёнами. Батя Анхар – старейшина самого большого семейства – в прошлом не раз ходил в походы на восточные кочевые племена, на урусов и арабов. Руководил он строго, и сейчас не потерял ещё собачью хватку и нюх на верные решения.