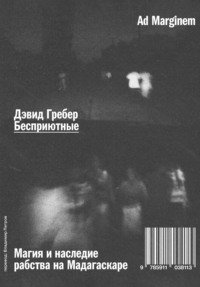Kitobni o'qish: «Бесприютные. Магия и наследие рабства на Мадагаскаре»
Lost People: Magic and the Legacy of Slavery in Madagascar
by David Graeber
Copyright © 2007 by David Graeber
First published 2007 by Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis.
© Estate of David Graeber.
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2025
* * *
Моей матери, которая хотела дожить до выхода этой книги в свет
Предисловие и изъявления благодарности
Отправляясь на Мадагаскар, я взял с собой различные сочинения Достоевского: «Идиот», «Братья Карамазовы», «Записки из подполья» и несколько сборников (еще у меня были Гоголь и Пинчон, но в основном – Достоевский). Думаю, это одна из причин, по которым книга вышла такой объемной. Позже Дейл Песмен указал мне на то, чего я не заметил тогда: Рацизафи, как я его изобразил в главе 9, очень напоминает персонажей Достоевского. Поразмыслив над этим, я понял, что, действительно, моя книга – нечто среднее между этнографическим трудом и толстым русским романом.
Когда я приступал к ней, то знал лишь одно: я попробую написать этнографическую работу, имеющую вид диалога. В 1980-е годы и начале 1990-х меня раздражали бесконечные монологи о том, что труды этнографов должны стать более «диалогичными». «Почему бы вам не заткнуться, – задавался я вопросом, – и не написать такой труд?» В те времена американские ученые только начали открывать для себя Бахтина. Диалогизм был в моде. Я прочел «Франсуа Рабле», множество книг и эссе Бахтина и о Бахтине, но почему-то так и не открыл его книгу о Достоевском, где содержится его практический анализ диалогического письма. Вместо этого я бессознательно обратился к первоисточнику.
Поэтому книга во многом построена вокруг персонажей в обоих смыслах слова: «чудак, оригинал» и «герой истории». Это означает также, что повествование разворачивается на стыке политики и истории, там, где повседневная жизнь, обычно текущая по умолчанию, ставится под сомнение и становится предметом обсуждения; в ходе этого может родиться что-нибудь новое. В конце концов, необычные персонажи помогают нам определить норму и являются скрытым резервом на случай изменений. Но я также касаюсь самой сути каждого из них, личных и моральных качеств.
Конечно, диалог может быть разным. Большинство этнографов ведут, по крайней мере, диалог со своими коллегами. У меня его почти нет. Конечно, общение имеет место, но я писал свою книгу, не намереваясь участвовать в каком-либо из современных споров, чего бы они ни касались – антропологии, Мадагаскара и так далее. Все теоретические выкладки (кроме тех, пожалуй, что приводятся в конце) совершенно специфичны и являются плодом моих собственных размышлений. Некоторые считали это неразумным, но Маршалл Салинз, мой научный руководитель, выразил полное понимание и оказывал мне всяческую поддержку. «Вы создаете сокровище на все времена», – говорил он, перефразируя Фукидида. Конечно, в его словах звучала ирония – он писал тогда работу, где высмеивал Фукидида как раз за это изречение; но, в конце концов, мы всё еще читаем Фукидида две с половиной тысячи лет спустя, и в этом трудно было усмотреть что-либо, кроме желания подбодрить меня. Так или иначе, я очень рад, что не стал писать книгу с целью вмешаться в какую-либо тогдашнюю дискуссию – иначе она никогда не вышла бы. На ее написание ушло несколько лет, а публикация состоялась еще через десятилетие. За это время появилось несколько превосходных трудов: Дженнифер Коул написала о народе бецимисарака1, коснувшись тех же тем, что и я, а именно памяти и насилия, Сандра Эверс – о рабстве в южном Бецилео. Могла бы образоваться интересная перекличка с моей работой. Но всё это подождет. Я лишь добавил несколько ссылок, которые, по-моему, могут быть интересны читателю, а в целом оставил всё как есть. Мне кажется, будет честнее, если книга останется диалогом с теми, с кем я действительно беседовал при работе над ней. Не стоит делать случайные вставки, притворяясь, будто я веду диалог с кем-то еще.
В процессе написания книги меня слегка беспокоили некоторые правила написания научных трудов. Предполагается, что монография представляет собой этнографическое исследование, подкрепленное теоретическими соображениями, причем в ее основе лежит некий фундаментальный тезис. Мне постоянно советовали переработать книгу в этом духе. Почему бы не расширить подход, спрашивали меня коллеги, не написать о кризисе государства в Африке, о грузе прошлого, о рабстве? Эти советы давали из самых благих побуждений и звучали очень разумно, если учесть, что большинство научных монографий хорошо расходятся в том случае, когда они являются обязательным чтением для студентов. Но это всегда казалось мне неправильным – в том смысле, что нужно совершать насилие над собственным опытом. Вспоминаются утверждения, например, о том, что в основе балийской культуры лежит иерархия, или ритуал, или что-нибудь еще. Вздор! Нет того, что лежит «в основе» культуры. Ее основу составляет всё. Люди живут не для того, чтобы доказывать точку зрения какого-нибудь исследователя. Этнографы всегда стремились – во всяком случае, как думал я, – описать некий универсум, способ существования, или хотя бы дать ключ к нему. Задним числом эти устремления кажутся слегка самонадеянными и прямолинейными. И всё же в них больше уважения к людям, чем в намерении сделать жизни тех, кто был твоими друзьями, иллюстрацией к некоему всеобъемлющему тезису. Разумеется, в моей книге недостает теоретических выкладок, но мне хочется думать, что теория открывается сама – в диалогах с моими мадагаскарскими собеседниками. Единственное исключение – теория нарратива, созданная, когда я работал в столичных архивах. Но и она оказалась несостоятельной, когда я стал слушать рассказы людей (хотя сама по себе выглядит любопытно).
Перейду к изъявлениям благодарности. Прежде всего выражаю признательность моему издателю Ребекке Толен за проявленное терпение и за ее вклад в появление этой книги. Иногда мне кажется, что издателей следует упоминать как соавторов – а их имена, наоборот, не указываются нигде. Кристи Лонг оказала мне громадную помощь в подготовке рукописи к изданию.
Перечислю также студентов, коллег и друзей, которые так или иначе способствовали выходу книги: Морин Андерсон, Нина Бхатт, Морис Блох, Ричард Бергер, Ален Кай, Дурба Чаттарадж, Дженнифер Коул, Джон Комарофф, Джин Комарофф, Дженнифер Дрэгон, Сандра Эверс, Джиллиан Фили-Харник, Магнус Фискешё, Томас Хансен, Лори Харт, Джозеф Хилл, Дженнифер Джексон, Иван Карп, Пир Ларсон, Майкл Ламбек, Нху Тхи Ле, Мун-Хи Ли, Лорен Лив, Энрике Мейер, Уайатт Макгаффи, Кристина Мун, Дейл Песмен, Илона Райцимринг, Эли Радзаонарисон, Жан-Эме Ракотоарисоа, Жак Ракотонайво, Кертис Реноэ, Миека Ритсема, Стюарт Рокфеллер, Маршалл Салинз, Ариан Шульц, Майкл Сильверстайн, Рэймонд T. Смит, Теренс Тёрнер, Дэвид Уоттс, Хилтон Уайт, Чжэнь Чжан, все обитатели Арсивам-Пиренены, особенно Нико, которого мне очень не хватает, Шанталь, Патриция и Парсон, а также мои остальные добровольные помощники и все, кто упоминается в этой книге, – особенно, конечно, члены семей Армана и Миаданы, но, еще раз повторяю, я благодарю всех. Сама эта книга задумывалась как изъявление признательности, дань уважения и свидетельство: именно ради вас я старался сохранить ее в нынешнем виде – чтобы отразить, хотя бы отчасти, ваш целостный взгляд на окружающую действительность.
1. Бетафо, 1990
Бетафо заинтересовал меня в первую очередь тем, что его жители не ладили между собой. Многие почти не разговаривали друг с другом. Известно, что, если община разделена таким образом, никто не хочет об этом говорить. Уж точно не с чужаками. Чаще всего люди не хотят склонять пришлых на свою сторону, считая такое положение позорным для всех, кто в этом замешан. При общении с чужаками местные всегда стремятся подчеркнуть сплоченность внутри своей общины, чтобы обрести нравственный авторитет, представая как ее часть; если такая сплоченность явно отсутствует (как в Бетафо), все упорно молчат.
Но в Бетафо было иначе. По крайней мере, когда я в первый раз встретился с ее жителями, кое-кто охотно рассказывал о местных конфликтах – в основном потому, что по тем или иным причинам желал оказаться над схваткой. Хотя я и в дальнейшем знал этих людей лучше остальных, как только стена молчания дает трещину, она, как правило, рушится полностью; как только становится известно, что кто-то заговорил, все начинают думать, что, возможно, надо высказать свою точку зрения. Во всяком случае, так было в Бетафо.
Первым, с кем я познакомился в Бетафо, был Арман Рабеаривело. Я жил тогда в Аривонимамо, городе с приблизительно десятитысячным населением. Арман привозил туда бананы с побережья, снабжая ими большинство торговцев в городе и окрестностях. На рынке всегда можно было видеть двух-трех его работников, стоявших за огромными кучами бананов. То были молодые люди необычного вида: красные береты, форма военного образца. Надо сказать, что в этой части Мадагаскара около трети всех жителей именуются олона майнти – «черные люди»: обладая более темной кожей, чем представители «белого» населения2, они в основном являются потомками рабов, завезенных в XIX веке. В отличие от большинства «черных» людей, населяющих сельские районы Имерины, Арман и его работники практиковали стиль, отсылавший к африканским националистическим плакатам, которые были популярны в столице страны на рубеже 1970—1980-х годов, и в целом к революционным движениям Третьего мира. Они слушали регги и фанк. Арман, высокий, с небольшой бородкой, бесцеремонный (во всяком случае, по мадагаскарским меркам), но, к счастью, добродушный от природы, был виднейшим левым политиком в этих краях.
Арман считал, что стоит выше всех ссор в Бетафо, поскольку принадлежит к куда более обширному сообществу. Сын бедных родителей, он достиг известного положения, поскольку учился в коллеже. Всячески подчеркивая свою принадлежность к африканскому миру, он тем не менее считал любые линии разделения между людьми – например, между черными и белыми, – проявлением расизма, невежества и близорукости, которые свойственны обитателям деревни. Все здравомыслящие люди, с его точки зрения, должны были объединиться для борьбы с этим. Но о его жизни и взглядах я узнал лишь впоследствии, когда Арман и его жена Нети стали моими близкими друзьями. Пока же мне было известно лишь, что это знакомый моего друга Рамоса Парсона.
Парсон преподавал биологию в Высшей католической школе. Его жена держала отели – ларек с едой на рынке. В первые два месяца моего пребывания в Аривонимамо я то и дело оказывался у этого ларька. Арман и Парсон были давними партнерами по выпивке. После обеда, когда Арман заканчивал с делами и ему нечем было заняться, он часто захаживал в заведение супруги Парсона.
В те времена я записывал рассказы людей, проживавших в окрестностях Аривонимамо, и Парсон часто отправлялся со мной. Узнав о моих занятиях, Арман сразу же вызвался подвезти нас в Бетафо. Там, по его словам, некогда жила известная андриана, наследница королевского престола, по имени Андрианамбонинолона. Ее потомки по-прежнему обитали в этом месте.
Все полагали, что андриана – это очень интересно. Холмы в тех краях были усеяны королевскими могилами, куда люди совершали паломничество, желая исцелиться или просто в знак почтения. Слово андриана, однако, имеет более широкое значение, обозначая не только королей и их наследников, но и всех, кто принадлежит к королевскому роду в наши дни. Примерно треть «белых» были андрианами, остальные же относились к хува3, простонародью. Поэтому население Бетафо делилось не столько на «белых» и «черных», сколько на выходцев из благородного сословия и потомков рабов.
В итоге, благодаря Арману, мы поговорили с двумя местными жителями. Сначала мы поехали в деревушку Морафено, чтобы побеседовать с одним черным, родственником Армана, очень старым и чудаковатым астрологом по имени Рацизафи, после чего он повез нас в Беланитру, деревню, расположенную неподалеку от первой – к президенту фоконтани4, представителю андрианы. Уже тогда мне показалось, что президент чем-то обеспокоен. Я не слишком задумывался над этим: вдруг он попросту робок от природы или мое присутствие смущает его? Так или иначе, постепенно его зажатость прошла, и вскоре вся наша компания – Арман, Парсон, президент и я – направлялась к старинному поселению Бетафо, центр которого был заброшен и зарос растительностью. Мы с восхищением обозревали рвы, окружавшие деревню, упавшие каменные столбы какого-то дома на самом краю Бетафо (я зарисовал их), увидели большое белое надгробие предка андрианы. Это была приятная поездка и, по сравнению со многими последующими, полезная по части сбора сведений – но я не подозревал о том, какие невидимые для меня силы крылись за всем этим.
Думаю, любой предпочел бы ничего не знать о них.
Хотя нет, не каждый, должен в этом признаться. Президент имел все основания для беспокойства, видя, как я вхожу к нему с Арманом, сразу после визита к Рацизафи. Полагаю, в первый час нашего общения он боялся, что я вот-вот спрошу, кто такой Рацизафи, или попрошу разъяснений сказанного астрологом – и расслабился только после того, как понял, что я не стану спрашивать. А я вполне мог бы, так как мало что понял из слов Рацизафи. Когда мы встретились, он возвращался с поля, с лопатой на плече, в шерстяной шапочке, попивая ром из висевшей на бедре походной фляги. Мы остановились у дерева, я включил магнитофон, и он повел свой рассказ скрипучим стариковским голосом, обращаясь в основном к Арману, а не ко мне: сначала тихо, потом все громче и громче, выпив ром из фляги и перейдя на наш. Но понятнее не становилось, даже наоборот. (Под конец он широко развел руки, споткнулся и упал. «С ним всё в порядке, – успокоил меня Арман, когда я бросился на помощь, – такое случается постоянно. Он привык».) Честно говоря, я вообще не представлял себе, сколько всего за этим кроется. Лишь позднее, когда мы с Парсоном стали расшифровывать магнитофонную запись, я понял, до чего это любопытно.
Но главным предметом моего интереса Бетафо стал после встречи с женщиной по имени Миадана.
Это произошло случайно. Я бродил по Бетафо в первый день нового лунного года вместе еще с одним другом из города, женщиной по имени Шанталь. В этот день по всей Имерине, да и по всему Мадагаскару, совершался ритуал фанасинана. Арман заверил нас, что Рацизафи всегда отмечает этот праздник, принося в жертву овцу (или, по крайней мере, курицу), и что, хотя сам Арман не сможет прийти, Рацизафи не будет возражать, если мы явимся к нему. К сожалению, случился «испорченный телефон», или же дело было в том, что я всё еще неважно владел языком; тем утром я был полностью уверен, что еду в Бетафо для присутствия на фанасинане.
Итак, около десяти утра я стоял в поросшем растительностью, почти покинутом людьми центре Бетафо, у могилы предка андрианы, вместе с Шанталь. «Почему это место выглядит таким же пустынным, как и всегда? – думал я. – Зачем я последовал совету, из которого мало что понял? Лучше бы я поднялся на вершину одной из тех знаменитых гор вокруг Аривонимамо, там наверняка совершают множество жертвоприношений. – Я поглядел на докуренную сигарету: выбросить в траву или всё же не стоит? – А может, мы не в той части Бетафо?» (По правде говоря, так и было: Рацизафи совершал свой ритуал в Морафено, но об этом я узнал намного позже.) Неподалеку от нас стояли три дома. Два – традиционные двухэтажные постройки из красной глины, с высокими соломенными крышами, – выглядели пустыми. В третьем, который выглядел более современным, наблюдались признаки жизни. Мы подошли в двери и крикнули: «Ходи-о!» Явилась женщина лет сорока пяти, с худым лицом, сдержанная и вежливая. В одном углу ее рта торчал странный кривой зуб. Она молча слушала нас, пока мы объясняли, что я исследую Мадагаскар, его историю и обычаи, что мы уже были здесь, а сейчас прибыли посмотреть на ритуал, но, судя по всему, ничего такого здесь не устраивают, и если она что-нибудь знает об этом, то мы будем очень благодарны за любые сведения, а если нет, как, по всей видимости, и обстоит дело, извинимся за беспокойство и откланяемся.
– Я не знаю ничего о фанасинане, – сообщила она, – но могу рассказать кое-что об истории. Заходите.
Мы оказались в большой комнате с двойной кроватью и ротанговыми стульями. Женщину звали Миадана. Она прогнала кур, забредших во двор, познакомила нас с мужем, сыном и дочерью, отправила дочь на кухню варить нам кофе и начала рассказывать об истории Бетафо, почти без умолку. Это продолжалось часа два. Миадана поведала о происхождении местного андрианы (все ее родственники были андрианами, и их знатные предки основали общину), описала традиционные обычаи и табу. Община была чрезвычайно традиционной, с бесчисленными обычаями и табу. Семья Миаданы то и дело нарушала их. Мы пренебрегаем всеми обычаями предков, сказала она. Мы живем здесь всего пять лет, мы не оставили столичных привычек, свойственных обычным людям: почему вдруг мы должны совсем отказаться от лука и чеснока? Но, конечно, не надо ничего выставлять напоказ. Если вы выращиваете чеснок, посадите вокруг него цветы, чтобы перебить запах. Люди постоянно ругают нас, грозятся рассказать обо всём Рацизафи, но никто еще не поймал нас за руку. Она сказала и еще кое-что: обычаи вовсе не исходили от предков. Во всяком случае, в этом месте. Этот переполох в связи с табу был лишь игрой со стороны Рацизафи и его прихвостней, средством запугать андриан и осложнить им жизнь.
Прежде чем продолжить, я хочу заметить, что Миадана была потрясающей рассказчицей. В ее словах слышалась неподдельная горячность. Во время нашей первой встречи – кстати, она ни разу не спросила, кто я такой и почему меня интересует Бетафо, – ее муж, видный мужчина лет пятидесяти, сказал от силы два-три слова. Иногда он порывался вставить грубое замечание или ответить на наш вопрос, но был не в силах совладать со словесным потоком, лившимся из уст жены. Похоже, это не очень досаждало ему. Но мной овладело ощущение чего-то нереального: в сельских районах Имерины, когда речь шла о событиях прошлого, женщины всегда доверяли это дело мужчинам. Порой матери просили меня обратиться к их сыновьям, чьи ошибки потом поправляли. Миадана как будто не знала об этом правиле. Что еще более странно, когда она забывала имя или дату, то обращалась к своему двенадцатилетнему сыну (мне сказали, что ему пятнадцать, но я бы дал двенадцать, судя по его детскому лицу). Тогда он слегка скучающим тоном говорил: «Это было в тысяча девятьсот тридцать первом году, мама».
Наверное, я мог бы счесть их чудаками, инородцами, образованными людьми, которые оказались не на своем месте и были нехарактерны для той общины. Но я чувствовал, что полюбил их, остальное было не так важно. Причина была то ли в том, что я сразу почувствовал себя сообщником Миаданы, нарушавшей всё что можно, то ли в ее чувстве юмора, то ли в том обстоятельстве, что ей явно хотелось побеседовать со мной о таких вещах, о которых другие предпочитали молчать. Когда она попросила меня поскорее вернуться, я решил, что она говорит всерьез, и так и сделал. Вскоре я стал завсегдатаем ее дома.
Нети, жена Армана, всячески расхваливала Миадану и ее родных: достойные люди, которые хотят жить со всеми в мире и согласии, и не их вина, что соседи не хотят с ними общаться. Обычная для Бетафо неприязнь, объяснила она: соседи – «черные», Миадана – «белая». Казалось, Нети искренне расстроена из-за всего этого. Я вспомнил некоего Деси, андриану из деревни Беланитра (где я встретил президента фоконтани), который приходил к Арману по мелкому делу. Армана не оказалось дома, Нети пригласила Деси войти, но тот отказался и стоял за дверью минут двадцать, пока не вернулся муж. «Там, в Беланитре, все такие, – позже сказала мне Нети. – Донельзя вежливые, всегда здороваются, говорят любезности. А потом вот это… И ты понимаешь, что толком не знаешь их».
Арман считал, что в Бетафо всё началось недавно. В его детстве это была крепкая, дружная община. И только вернувшись из коллежа, он обнаружил, что жители южной и северной половин фоконтани перестали приглашать друг друга на свадьбы и похороны. Окончательный разрыв произошел примерно через три года.
То же самое я слышал в течение следующего года, когда всё глубже увязал в делах Бетафо. Большинство людей высказывались еще определеннее. Окончательный разрыв случился в 1987 году, когда общинная ордалия5 привела к настоящей катастрофе. Об этом бедствии я слышал не раз. Оно стало, в некотором роде, признаком крушения общины: линии разлома наметились задолго до этого, но теперь никто не мог отрицать их существования.
Впервые я услышал об этом от Миаданы, во время нашей первой встречи, хотя в то время плохо понимал важность всего этого. Изложу вкратце ход событий. В Бетафо наблюдался всплеск воровства. Фокон’олона, собрание общинников, решила устроить коллективную ордалию – обратиться к духам предков, чтобы наказать виновных. Обычно человеку давали выпить воду, в которую клали землю с могилы предков. Но сложность заключалась в том, что жители Бетафо происходили из двух различных родов. Поэтому решено было взять землю с обеих гробниц и смешать ее. И это оказалось роковой ошибкой. Вот что говорит Миадана.
Миадана. Было много мелких краж. Кто-то таскал маниоку и злаки с полей. «Мы устроим ордалию», – сказали они. И устроили. В Беланитре – вы знаете, где это? Там стоит дом фоконтани, и все, вся община собралась там. Взяли миску, налили туда воды. Принесли немного земли отсюда и немного оттуда [показывает на северо-восток] – там тоже есть могила6.
Итак, один из устроителей взял землю с гробницы андрианы в центре Бетафо [в нескольких ярдах от дома, где Миадана рассказывала мне об этом], а другой направился через рисовые поля на холм на северо-восток, где похоронен предок астролога Рацизафи, и взял землю там. Миадана великодушно допускает, что предок Рацизафи, как заявляет он сам, тоже был своего рода андрианой.
Миадана. Вот это тоже могила андрианы, она принадлежит людям из Морафено. Но, знаете, эти двое были соперниками. То есть андриана, который жил здесь, и тот, который жил там. Они были соперниками. Соперниками.
Они взяли миску с водой и опустили туда золото. Золото. Потом взяли землю отсюда и оттуда, и, когда они положили ее туда, все люди выстроились в ряд. Каждого по очереди приводили к миске и давали выпить по ложке воды.
Все пили со словами: «Мы пьем эту воду, и, если я вор, если я сделал это, пусть два предка убьют меня на месте», словно там были два предка, которые – как бы вы сказали? – прикончили бы их.
Что же случилось дальше, спрашиваете вы?
Было лето. Середина лета. Здесь верят, что оба предка были андрианами, но они постоянно преследовали друг друга. Оба жили здесь, но враждовали, один был побежден и убрался отсюда. А потом его дети воздвигли эти могилы.
Дэвид. Как его звали?
Миадана. Райнитамайна. Из Морафено. Теперь их могила там, сюда они больше не приезжают.
Дэвид. А он и Андрианамбонинолона были родственниками?
Миадана. Да, было далекое родство. Но… они не ладили, и один был побежден и изгнан. Он ушел.
И всё равно, для ордалии они соединили оба праха. После всего, что случилось, они это соединили. Для ордалии.
Так что же было дальше?
Не знаю, совпадение это или нет. Совсем не понимаю. Но вот что случилось.
Стояло лето, как сейчас, намечался дождь. Рис… рис уже собрали. Пошел сильный дождь. И рис тех, кто назначил ордалию, был… он был…
Рис, принадлежавший человеку из Морафено, был весь смыт. Унесен дождевой водой. Он поплыл в Амбодивону – только его рис! [Смех.] Очень забавно. Очень, очень забавно. Весь рис, который он собрал, оказался там – за километр с лишним от него! И что же? Они стали спрашивать: «Как так вышло, что весь наш рис вода унесла на поля, а ваш не унесла, даже чуть-чуть?» Кое-кто стал говорить: «Ну да, а разве не вы положили этих двоих в одну миску?» Начался дождь. «И разве дождь не унесет это?»
Было совершенно ясно, что там случилось. И больше ордалий не назначали. Ни одной.
«Человеком из Морафено» был всё тот же пожилой астролог Рацизафи. Он и андриана по имени Сели, сосед Миаданы, стали главными устроителями этой церемонии. И когда полились дожди7, пострадал только рис этих двоих – тех, кто предложил смешать прах двух предков.
Чем больше я узнавал об этих предках, тем больше понимал, почему они рассердились, оказавшись в одной миске. Более того, я удивился, что кому-то вообще пришло в голову смешать прах. Даже после смерти они продолжали враждовать. То была образцовая вражда. Один – предок «черных», – по преданию, сражался в магической битве против андриан, пытавшихся его поработить. (Рацизафи пытался рассказать мне об этом в первый день.) Говорят, он до сих пор так сильно переживает, что, когда открываешь его гробницу, надо завесить вход тканью: если он снова увидит Бетафо, на деревню обрушатся вихри. Мне поведали также, что, если «черный» хоть пальцем тронет могилу, стоящую рядом с домом Миаданы, внутри затрещат выстрелы. Рацизафи, проведший всю жизнь в Бетафо, не совался в ту часть деревни, насколько знали местные.
В любом случае ордалия положила начало ряду событий: община раскололась надвое, и предки сыграли в этом видную роль. Миадана намекнула на это в конце своего рассказа. По ее словам, большинство «черных» (составлявших большинство населения северной половины фоконтани и в основном живших неподалеку от рисовых полей) стали следовать примеру Рацизафи, не показываясь в центре деревни, где находилась враждебная гробница8.
Миадана. И вскоре никто уже не приходил сюда, ни разу. То есть народ больше не идет через эти места, он идет по нижней дороге. [Мягко.] Кое-кто говорит, что мы злые, но на самом деле мы не злые!
Примерно через полгода Сели – один из двух устроителей ордалии, выходец из знати, – пострадал от того же предка еще больше. С ним случилось настоящее несчастье: один из богатейших людей в Бетафо стал безземельным нищим, не имеющим за душой ни гроша. Поговаривали, что он оскорбил Андрианамбонинолону, женившись на женщине из рода рабов, и потерял всё. Правда, некоторые добавляли, что здесь не обошлось без происков его соперников, включая и астролога. Как бы то ни было, соперники, безусловно, извлекли из этого выгоду. Почти вся его земля отошла к ним, и это стало переломным моментом: давнее недовольство бывшими рабами, постепенно захватывавшими земли знати, перешло в открытую вражду между двумя сторонами. Иными словами, ордалия предвещала последующие события, показывая, что представители двух таких родов не могут жить в одной общине. Давние трения вышли наружу, стали видны всем – и людям теперь было легче совершать те или иные поступки, а потом уверять, что они были неизбежными.
Но почему к расколу привело именно наводнение? Обратимся к истории. Следует понимать, как люди вроде Армана, Рацизафи, Миаданы и их соседи видят свое место в обществе, кого или что они представляют и кто представляет их (как им кажется), знать их происхождение и судьбы, иметь понятие о нравственной стороне дела. Вопрос заключается в том, какие действия они считают политически значимыми или, если уж на то пошло – о чем говорит случай с враждующими предками, какие существа являются политически значимыми субъектами. Есть и множество других вопросов, связанных с властью, авторитетом, действиями, справедливостью, ценностями. Сделать это очень нелегко, но я попытаюсь.
Для начала будет полезно отступить еще на шаг и объяснить, что привело меня в Аривонимамо, что представляла собой бетафская община и какие полевые работы я там производил.
Аривонимамо и Бетафо
Я прибыл на Мадагаскар 16 июня 1989 года. Первые шесть месяцев я жил в столице – Антананариву, – изучал язык и работал в архиве. Национальный архив в Антананариву обладает великолепной коллекцией: в нем хранятся тысячи документов королевства Мадагаскар, относящиеся к XIX веку, – в основном из нагорной провинции Имерина, располагавшейся вокруг столицы. Почти все они составлены на малагасийском языке. Я просмотрел сотни папок, тщательно скопировав всё, что касалось округа Восточный Имамо – той части Имерины, в которой я собирался работать. Восточный Имамо показался мне тогда довольно сонным местом: сельская глубинка, удаленная от столицы с ее жаркими политическими схватками, но одновременно и от неспокойных окраин Имерины, полупустых территорий, где хозяйничали банды, строились промышленные предприятия и время от времени вспыхивали восстания. Там веками не происходило почти ничего. Идеальная область для изучения медленно происходящих социальных и культурных изменений, которыми я занимался. Иными словами, в Восточный Имамо меня привели соображения, противоположные тем, по которым я оказался в Бетафо.
Доведя свой малагасийский до минимально приемлемого уровня, я отправился в Аривонимамо, крупнейший город провинции. Попасть туда из столицы было несложно: час езды на машине. Вскоре я освоился с городом и стал совершать вылазки в близлежащие деревни, где слушал и записывал рассказы местных жителей, а также присматривал место для более подробного исследования.
Аривонимамо, город с десятитысячным населением, вытянулся вдоль шоссе, идущего на запад от Антананариву. В 1960–1970-е годы здесь располагался национальный аэропорт – южнее города, в широкой долине; он давал деньги и рабочие места, но так и не стал неотъемлемой частью городской экономики. Аэропорт был чем-то внешним по отношению к городу. Дорога к нему не проходила через сам Аривонимамо, и путешественникам негде было даже переночевать. В 1975 году построили новую воздушную гавань, ближе к столице9, и к началу 1990-х годов о старом аэропорте напоминала лишь постройка из фанеры – бывший ресторан, – стоявшая на окраине города, там, где дорога из аэропорта вливается в шоссе.
В центре нынешнего города находится стоянка такси – обширное, залитое асфальтом пространство, по краям которого стоят две большие церкви, католическая и протестантская. Большую часть дня она набита фургонами и универсалами, которые заполняются пассажирами, сумками, ящиками и выезжают на шоссе, направляясь в столицу или дальше на запад. К югу от стоянки растет дерево амонтана, широко раскинувшийся древний платан – символический центр города и свидетельство того, что когда-то здесь проживали короли.