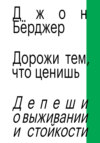Kitobni o'qish: «Современная природа»
Derek Jarman
Modern Nature
With an introduction by Olivia Laing
Перевод предисловия: Александра Соколинская
Copyright © Derek Jarman 1991
Introduction copyright © Olivia Laing 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2019
© Фонд развития и поддержки искусств «АЙРИС»/IRIS Foundation, 2019
* * *
«Современная природа» – моя самая любимая книга. Я перечитывала ее множество раз, и она повлияла на меня как ничто иное. Впервые эти дневники попались мне в руки год или два спустя после выхода в 1991 году, само собой, это было еще до смерти Джармена в 1994-м. А рассказала мне о них сестра Китти. Тогда ей было десять или одиннадцать лет, а мне – двенадцать, может, тринадцать.
Странные дети. Мама у меня была лесбиянкой, и мы втроем обитали в безобразной новой застройке под Портсмутом, где все тупики назывались в честь уничтоженных ими угодий. Жилось нам вместе неплохо, однако мир за порогом дома казался шатким, неприютным и непроходимо серым. Я ненавидела свою школу для девочек, учениц-гомофобов и докучливых учителей, проявляющих излишнее любопытство к нашей «семейной ситуации». Это была эпоха Статьи 28, запрещавшей местным органам власти пропагандировать гомосексуальность, а школам – поощрять «профанацию семейных отношений». Заклейменные государством как «притворная семья», мы существовали под гнетом этих пагубных правил, в преддверии разоблачений и неминуемой беды.
Сейчас не могу точно припомнить, как впервые Дерек вошел в мою жизнь. Когда «Channel 4» поздно вечером показал «Эдуарда II»? Китти была сражена наповал. Годами она, сидя у себя в комнате поздними вечерами, смотрела и пересматривала его фильмы, самая неожиданная и горячая поклонница Джармена. Особенно ее завораживала сцена, когда Гавестон и Эдуард танцуют в тюрьме, оба в пижамах, под песню Энни Леннокс «Всякий раз, когда мы прощаемся».
А меня покорили книги. Я мигом влюбилась в «Современную природу». Решив перечесть ее этой зимой, я была ошеломлена, насколько большим подспорьем дневники стали в моей взрослой жизни. Именно благодаря им у меня сложилось представление о том, что значит быть художником, иметь политические убеждения, я даже узнала, как разбить сад (играючи, упорствуя, презирая границы, свободно взаимодействуя).
Под влиянием «Современной природы» в двадцать лет я увлеклась травами, околдованная бесконечным перечнем растений: сладко-горький паслен, ястребинка, стальник – вперемешку с выдержками из старинных травников Апулея и Жерарда о свойствах барвинка и кукушечного арума. Когда я работала над своей первой книгой, «К реке», меня направлял именно голос Джармена.
В начале 1990-х Дерек часто печатался в газетах и выступал по радио. Он, единственный из британских знаменитостей, публично признался, что инфицирован ВИЧ, в итоге сделавшись мальчиком для битья. «Я всегда ненавидел тайны, – так он объяснил свой поступок, – язвы, которые уничтожают». Джармен был подвергнут остракизму, цензуре, лишился финансирования и другой поддержки, но сохранил обаяние, остроумие и замашки озорника.
Он боялся, что заявление поставит под угрозу его будущее как кинорежиссера, отныне ничем не застрахованное. Он также знал, что служит объектом ненависти для бульварной прессы и видимой мишенью для паникеров, испытывающих ужас перед СПИДом. И это была не паранойя. В заметке, опубликованной в 2017 году в «Лондонском книжном обозрении», Алан Беннетт вспоминает, как в 1992 году он сидел позади Джармена на премьере «Ангелов в Америке». Направляясь к своему креслу, он чуть задел его за рукав и «взмолился ко всем богам, чтобы Джармен не обернулся и не пожал ему руку. Так я позорно промолчал». В перерыве он помчался наверх и налепил пластырь, после чего уже смог поздороваться. Беннетт рассказал этот случай, как он объяснил, «дабы напомнить об истерии вокруг Джармена, которой поддался и он сам».
Трудно передать на словах, насколько мрачными и страшными были те года. Тогда еще не придумали интернет – эту вызывающую зависимость мутацию волшебного зеркала доктора Ди. Люди знали очень мало. Даже будучи больным, Дерек, вспыльчивый и до невозможности шумливый, не изменил своих привычек. Достаточно было взглянуть на него, чтобы понять, что существует другая жизнь – дикая, необузданная, радостная. Он распахнул двери и показал нам рай. Он сам вырастил райский сад, затейливый и бурнорастущий. Я не веру в модели для подражания, но даже теперь, спустя четверть века, спрашиваю себя: а как бы поступил Дерек?
Дерек Джармен начал дневник, со временем оформившийся в «Современную природу», 1 января 1989 года с описания Хижины Перспективы, крошечной смоляно-черной рыбацкой хижины на мысе Дангенесс, которую он купил под воздействием импульса за тридцать две тысячи фунтов на доставшееся от отца наследство. После проведенных в Лондоне десятилетий у него наконец появилась возможность вернуться к своей первой любви – садоводству.
На первый взгляд, Дангенесс мало подходил для садовода-энтузиаста. Прозванное «пятой стороной света», это было особенное место – с тяжелым микроклиматом, сильными ветрами и пересохшей и просоленной почвой, от которой жухли листья. И эту каменную пустыню с маячившей, точно фантом, атомной станцией Джармен задумал превратить в оазис. Как и все его начинания, проект осуществлялся им собственноручно и в рамках маленького бюджета. Возя тачками навоз и выкапывая в гальке ямы, он упрашивал старые розовые кусты и инжир цвести, словно это были актеры, пуская в ход все тот же обезоруживающий шарм.
Первые страницы «Современной природы» читаются точно заметки Гилберта Уйата или Дороти Уордсворт – как научные записки о местной флоре и фауне, приправленные замечаниями собирателя древностей. У Джармена был глаз художника, и он улавливал, как меняются оттенки моря, неба и камней, зоркое око примечало на берегу невероятные богатства. Глауциум и катран росли прямо на гальке по соседству с колокольчиками, коровяком, синяком обыкновенным, ракитником и утесником, здесь же водились ящерицы и двенадцать разновидностей бабочек.
Но как Джармен объяснил художнице Мэгги Хэмблинг, его интересы не совпадали с пристрастиями сановных натуралистов Викторианской эпохи. «Да, понимаю, – ответила она. – Вы открыли для себя современную природу». Идеальное определение, охватывающие как ночные шатания по лесопарку Хэмпстед-Хит, так и выдергивающий из сна кошмар, навеянный ВИЧ. Из-за его умения писать откровенно о сексе и смерти – на две самые очевидные темы – бо́льшая часть сочинений о современной природе кажутся ханжескими и вялыми. Подход Дерека к природе радикален, и мне он представляется лучшим, поскольку не исключает из сферы интересов тело. Джармен описывает обостряющуюся болезнь и нарастающее желание с такими же скрупулезностью и вниманием, с какими осматривает крушинную облепиху или дикую смоковницу.
Замысел разбить сад был своеобразной реакцией на отчаяние, в которое его повергли комплексное лечение и почти стопроцентный смертный приговор. Сад мог стать заделом на будущее и стимулом вспомнить прошлое. Джармен заново познавал себя, возясь с растениями, которые обожал мальчишкой, – незабудками, семпервивумом, гвоздичным деревом, – мысленно переносился в сады своего скитальческого и несчастливого детства.
Его отец был летчиком ВВС Великобритании, и семья часто переезжала. Ребенком Джармен жил на великолепных привольных берегах озера Маджоре в Италии, в Пакистане и в Риме. В Сомерсете из-за поселившихся на чердаке диких пчел у них рухнула стена дома, окатив двор волной меда.
Чувствительный ребенок, Дерек воспринимал сад как зону волшебства и неисчерпаемых возможностей, готовую альтернативу строго регламентированной жизни военнослужащего. Он вспоминает, как делал гнезда из свежескошенной травы, а дождливыми днями сосредоточенно изучал замечательные цветные иллюстрации в книге «Прекрасные цветы и секреты их выращивания». Отец дразнил его неженкой и кислым, как лимон, а однажды, по словам родственника, выкинул маленького сына из окна.
Сад, в особенности запущенный, очень эротичен. В приготовительной школе жалкий, брошенный на произвол судьбы, по темпераменту явно не дотягивающий до планки «мускулистого христианина», Дерек получил первый сексуальный опыт с таким же, как он, заблудшим мальчишкой; в экстазе они ласкали друг друга на поляне, поросшей фиалками. Парень назвал это «приятным ощущением». Но произошло неизбежное: их застукали, первое мучительное переживание, изгнание из Эдема, травма, которая воспроизводилась из фильма в фильм.
Школа. Он звал ее Извращенным Раем – битье вместо объятий, несчастные мальчики в форме не по размеру, издевающиеся друг над другом, обделенные любовью, отрешенные от собственных тел. Даже на пороге взросления у Джармена сохранилось жгучее чувство стыда и он так и не научился говорить о своих истинных желаниях, не говоря уже о том, чтобы их исполнять. «Испуганный и запутавшийся, я считал себя единственным в мире гомосексуалом».
«Современная природа» полна сожалений о потерянном времени и годах удушья. Лишь решившись поступить в школу изящных искусств и начав – к счастью для себя – заниматься любовью с мужчинами, Джармен вновь обрел рай взаимных желаний, пусть и по-прежнему нарушая закон.
На Джармене благодатно отразилось классическое образование. Даже по зарисовкам неустойчивой погоды видно, что он постоянно колеблется между двумя ипостасями – бунтовщиком и антикваром. Такова уж порочная система: да, он – экспериментатор-гомосексуал, которому нравится доводить до белого каления Мэри Уайтхаус. Но есть еще и традиционалист, не имеющий кредитной карты и прячущий факс в корзине для белья, который сожалеет об утраченных ритуалах и учреждениях, о множестве огородов в Кенте, ставших ненужными из-за засилья супермаркетов, и об елизаветинской медвежьей яме на Бэнксайд, снесенной застройщиками.
Нельзя сказать, что Джармен ностальгирует по прошлому, и уж точно он не сторонник «Малой Англии». Он выступает против стен и заборов, за диалог, сотрудничество и обмен. Как он пишет на самой первой странице: «Граница моего сада – горизонт». Его восхищает геральдическая, романтическая, возможно, наполовину вымышленная Англия. «Средние века рождали в моем воображении рай, – пишет он мечтательно. – Не „Рай поденщика“ Уильяма Морриса, но нечто подземное, как водоросль или коралл, что плавают в галереях украшенного драгоценностями реликвария».
Как студент лондонского Кингс-колледжа, в 1960-е он слушал лекции историка архитектуры Николаса Певснера, чей наметанный глаз примечал временной разнобой в любом взятом наобум английском городе или деревенском пейзаже. У Джармена бывали периоды, когда, казалось, его захлестывало прошлое, становясь почти осязаемым, – чувство, роднившее его с Вирджинией Вулф, которое он передал в фильмах «Юбилей» и «Разговор с ангелами», магических путешествиях во времени.
Утраты Англии – меланхолия. Острая бритва – СПИД. Дневник Джармена несет печать смерти, сообщая о преждевременной и катастрофической потере многих друзей. «Старость быстро пришла к моему замерзшему поколению», – горестно отмечает он и часто сам мечтает о небытие. В четверг, 13 апреля 1989 года он пишет о телефонном разговоре с Говардом Брукнером, блестящим молодым нью-йоркским кинорежиссером, которого он очень любил. К тому времени Брукнер уже не мог говорить, и в течение двадцати минут Джармен «слышал низкий стон раненого», усиленный чудо-технологиями, которые не сумели его излечить, зато благодаря им его голос пересек пол земного шара.
СПИД также усиливал ощущение грядущего апокалипсиса. Ежедневное созерцание зловещей громады – атомной станции Дандженесс Би, которая, казалось, вот-вот взлетит на воздух, превратившись в облако пара, – наводило Джармена на тревожные мысли о глобальном потеплении, парниковом эффекте и озоновых дырах. Есть ли у этого мира будущее? Неужели прошлое безвозвратно кануло в Лету? Что делать? Не терять времени понапрасну. Сажать розмарин, книпхофию, сантолину, обращать страх в искусство.
Но постойте! Нельзя сбросить со счетов и другого Дерека – смутьяна, словоохотливого и неугомонного, как плутоватый ворон его соседки, флиртующего в гей-баре «Comptons», перемывающего косточки и строящего планы насчет пирогов из Maison Bertraux. Он крадет отростки всех растений, попадающихся ему на глаза, яростно обрушивается на бульварную прессу, Британский фонд охраны памятников, билетные автоматы и «Channel 4», а затем как ни в чем ни бывало заключает, что судьба проявила к нему благосклонность, подарив поздние радости.
«ХБ, любовь», больничная записка. Его счастьем был Хинни-Бист – так он прозвал своего партнера Кейта Коллинза. Коллинз, программист из Ньюкасла, был необычайно красив. Они познакомились на фестивале в 1987 году и к тому времени, как был начат дневник, жили и работали вместе, курсируя между Хижиной Перспективы и домом Феникса – крошечной студией Джармена на Чаринг-Кросс-роад.
«Я престарелый полковник, а он – юный младший офицер», – сказал Джармен в 1993 году журналисту, ведущему колонку «Как мы познакомились» в газете Independent, а ХБ вставил: «У нас очень необычные отношения – мы не любовники и не возлюбленные. Скажу, на кого мы похожи: на Джеймса Фокса и Дирка Богарда из фильма „Слуга“. Я постоянно произношу фразы вроде такой: „Позвольте заметить, сэр, мой пирог получил самые лестные отзывы“».
Присутствие ХБ в «Современной природе» весьма ощутимо. Он дает бой теням, выскакивает из машин, точно черт из табакерки, по три часа принимает ванны, пуская по воде коробки с кукурузными хлопьями, и молится, опускаясь под воду с головой. Он поддразнивает и утешает Джармена, готовит ему ужин, блестяще играет в кино, у него даже монтажная работает как часы.
Кино – более непреклонный возлюбленный. «По глупости я желал, чтобы мои фильмы стали домом, содержавшим в себе все мои личные вещи», – пишет Джармен, однако, чтобы донести свое ви́дение до мира, требуются несчетные компромиссы и отказ от надежд. И все же он до головокружительного восторга любил киносъемки, этот импровизированный, великолепно костюмированный хаос, ощущение полета седалищем, воссоздание образов, почерпнутых из сновидений.
Периоды созерцания, связанные с Хижиной Перспективы, все чаще отвлекали его от кипучих трудов, когда он пытался втиснуть десятилетние наработки в пригоршню лет. За два года, отраженные в дневнике, Джармен снял фильм «Сад», подготовил видеоряд для первого турне Pet Shop Boys, равно как и выступил режиссером самого шоу, тогда же он начал работать над «Эдуардом II», параллельно рисуя иногда по пять картин в день. У него было мало времени и множество идей.
Его деятельность резко оборвалась весной 1990 года, когда он оказался в палате больницы Сент-Мэри в Паддингтоне. Он сражался с туберкулезом печени, пока на улицах бушевали погромы, спровоцированные маршем против подушного налога. Записи, сделанные в больнице, необычайно бодрые, в них не ощущается ни страха, ни страдания. Облаченный в «пижаму цвета берлинской лазури и кармина», он с любопытством наблюдает за своим состоянием и не без юмора описывает надвигающуюся слепоту и обильный ночной пот. Оказавшись абсолютно беспомощным, переполненный воспоминаниями о собственном несчастливом детстве, он к своей радости обнаруживает, что окружен любовью.
Дневник заканчивается в больнице, длинные перечни растений уступают место названиям лекарств, поддерживающих жизнь. Азидотимидин, ретафер, сульфадиазин, карбамазепин – унылая колыбельная начала 1990-х. Тем не менее Джармен встанет с больничной койки и продолжит работать, чтобы снять «Эдуарда II», «Витгенштейна» и «Блю», последние и самые глубокие картины. За четыре года он совершает практически невозможное и умирает в возрасте 52 лет.
Очень хотелось бы, чтобы он еще пожил. Хотелось бы, чтобы он был с нами – жизнерадостный и увлеченный, стряпающий нечто практически из ничего. Диапазон и масштаб его работ ошеломляют: одиннадцать полнометражных фильмов, каждый из которых раздвигает границы искусства кино, привнося в него нечто новое, от звучащей в «Себастьяне» латыни до неменяющегося экрана в «Блю»; десять книг, десятки короткометражек и музыкальных клипов Super 8, сотни картин; декорации к балету «Джазовый календарь» Фредерика Эштона, операм «Дон Жуан» Джона Гилгуда и «Похождения повесы» Кена Рассела, к фильму последнего «Дьяволы», не говоря уже о культовом саде.
Сейчас уже не бывает таких людей. На днях я прочитала твит журналиста, защищающего тех, кто пишет для изданий вроде Daily Mail: «Журналистика – умирающая профессия, работникам пера тоже надо платить за квартиру. Мы, безусловно, не так богаты, чтобы ставить мораль выше потребности выжить».
Воображаю, как смеялся бы над этим Дерек. Вся его жизнь была опровержением подобной жалкой логики. Моральные суждения как роскошь для сверхбогатых! Он считал кино умирающей индустрией, но при этом не прекращал снимать, не дожидаясь финансирования или разрешения, а беря камеру Super 8 и используя вместо актеров друзей. Когда ему и дизайнеру Кристоферу Хоббсу нужно было, чтобы задник в «Караваджо» выглядел как ватиканский мрамор, они зачернили бетонный пол и запрудили его водой – иллюзия полноты, ставшей полноценной благодаря богатому воображению, богатству, состоящему не в наличности, а в смекалке и усердии. За фильм «Военный реквием» он получил всего десять фунтов. На еду ему хватало, а чем еще заняться, кроме любимой работы? Непреложно стремясь вперед, ведь его интересовали «съемки, а не фильм».
Пара строк врезалась мне в память более двадцати лет назад. Она приведена в «Современной природе» и повторяется в «Хроме. Книге о цвете» и «Блю» (Дерек очень любил начинять новым смыслом любимые кадры и строки). Это вольная цитата из «Песни Песней Соломона», слабый отголосок христианства, сделавший его детство столь несчастным.
Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти,
И наши жизни воссияют как искры, бегущие по стеблю.
Такова уж наша участь – то погружаться во тьму, то рассеивать мрак, вспыхивая ярким пламенем.
Оливия Лэнг, 2018
1-е, воскресенье. январь 1989
Черная, как смоль, Хижина Перспективы стоит на гальке Дангенесса. Ее построили на краю моря восемьдесят лет назад; однажды ночью, во время шторма, волны ревели у самой двери, угрожая поглотить весь дом… Сейчас море отступило, оставив полосы гальки. Их ясно видно с воздуха; они расходятся от маяка на краю Несса, словно контурные линии на карте.
Окна Хижины выходят к дороге, в сторону восходящего солнца, бросающего блики на серебристый морской туман. Сквозь плоскую гальку цвета охры пробивается маленький темно-зеленый ракитник. Дальше, на краю моря, виднеются силуэты нескольких хижин и рыбацких лодок, а также давно брошенный кирпичный барак, причудливо наклонившийся, словно дамская шляпка; много лет назад в нем кипятили в янтарном консерванте рыбацкие сети.
Здесь нет стен и заборов. Граница моего сада – горизонт. В этом пустынном пейзаже тишину нарушают лишь ветер и чайки, ссорящиеся вокруг возвращающихся с дневным уловом рыбаков.
Здесь больше солнечного света, чем где бы то ни было в Британии; солнце и постоянный ветер, превратившие галечный пляж в каменистую пустыню, где выживает лишь самая стойкая трава, подготовили почву для серовато-зеленого приморского катрана, синего воловика, красного мака, желтого очитка.
Галечный пляж – дом жаворонков. Весной я насчитал дюжину птиц, поющих в голубых небесах. Стайки зеленушек кружатся по спирали, пойманные стремительными порывами ветра. Во время отлива море отступает, обнажая широкий песчаный пляж, на фоне которого морские птицы, летящие близко к земле, исчезают, словно ртуть. Рядом с рыбацкими тралами кормятся чайки. Когда начинаются зимние бури, бакланы едва касаются волн, что ревут вдоль Несса и беспорядочно швыряют камни на крутые берега.
Окна моей кухни, расположенной в задней части дома, выходят налево, на старый маяк Дангенесса и железную серую громаду атомной станции, перед которой темно-зеленый ракитник и утесник, покрытый ярко-желтыми цветами, образуют на гальке маленькие островки; довершает пейзаж рощица низкорослых, побитых штормами ив и тополей.
В центре рощицы можно найти бесплодную грушу, которая за целый век вытянулась на десять футов; под ней – ковер из фиалок. Это тайное место охраняет узловатый шиповник, а на лугу тихими летними днями собираются сотни бархатниц и голубянок, порхающих над острыми верхушками крапивы, усеянной черными черепаховыми гусеницами.
Высоко в небе парит одинокий ястреб, а вдали, на синем горизонте, в жарком мареве то появляется, то исчезает высокая средневековая башня церкви Лидда, собора болот.
Расцвел небесно-голубой огуречник, один из многих, выросших самосевом у задней двери. На утреннем морозе он вянет, но быстро приходит в себя: бодрый, как огурчик.
5-е, четверг. январь 1989
В саду взошел первый крокус; в прошлом году я посадил среди гальки несколько луковиц в маленькие куски торфа. Все утро он пытался раскрыться, притягивая к себе свет, когда солнце начало исчезать за домом.
9-е, понедельник. январь 1989
Посадил розы: Rugosa double de Coubert Harrisonii, Rosa mundi – несколько старых сортов роз от Рэсселов из Эрл-Корта. Когда я закончу, в саду будет рассеяно около тридцати кустов, насколько возможно не нарушающих его естественность.
Я приехал в питомник, расположенный на маленькой площади под платанами, в сумерках – романтическое место. Прогуливаясь между рядами растений и разглядывая выцветшие фотографии над каждым из них, погружаешься в мечты о долгих летних днях. Rosa mundi, роза мира, с ее ало-розовыми полосатыми цветами, была когда-то выведена из лекарственной Rose officionalis, розы Прованса. В двенадцатом веке ее привезли крестоносцы, а Гильом де Лоррис обессмертил ее в поэме «Роман о Розе». Подойдя заплатить за цветы, я встретил за кассой своего старого приятеля Андре. Он посмеялся над моей идеей дикого сада.
16-е, понедельник. январь 1989
Ненасытный кролик сожрал второй из маленьких падубов; чтобы добраться до листьев, он прогрыз стебель. Я подстриг то малое, что осталось. В прошлом году, пересаженный из уютной материковой почвы, он потерял на холодном восточном ветру все свои листья; теперь почерневшие остатки медленно возвращались к жизни.
Эти падубы были первыми посаженными мной растениями – в больших кадках, закопанных в камни. Меня подбадривало то, что они растут на другой стороне Несса в Холмстоуне.
Изуродованные ветрами и приобретшие пугающие формы, эти древние деревья впервые упоминаются Лиландом в «Дневниках»: «Они словно ловчие сети и погубили множество птиц».
18-е, среда. январь 1989
Продолжаю сажать розы: Rosa Foetida bicolor, еще один старый цветок, с двенадцатого столетия растущая на Ближнем Востоке, с простыми ярко-желтыми и красными цветами; и Cantabrigiensis, бледно-желтая, найденная в 1930-е годы в ботанических садах Кембриджа.
Прекрасный солнечный день; из-за усиливающегося парникового эффекта зима испаряется.
В полдень из местной конюшни привезли удобрения. Разбрасывая их, я осознал, насколько же физически не готов к этому: мне было невероятно сложно поспевать за приветливым фермером из Глазго, которому было явно за шестьдесят. Без тележки мне пришлось целый день таскать тяжелые мешки, чтобы разбросать по саду всего лишь треть груза. Удобрения стоили двадцать четыре фунта, а всё вместе – и удобрения, и розы – обошлось в двести фунтов, наполнив меня счастьем. К пяти часам у меня так все болело, что я решил остановиться. В 16:30 солнце скрылось за атомной станцией.
По обе стороны от входной двери расположены две аккуратные цветочные клумбы, каждая двенадцати футов в длину и два фута шесть дюймов в ширину: раньше в них лежали старые куски бетона и кирпичи, которые я аккуратно вынул и укрепил ими подъездную дорожку. Машины постоянно проваливаются в гальку, и их приходится вытягивать на буксире.
Во время отлива я собираю большие продолговатые камни, обнажающиеся после сильного шторма, и окружаю ими клумбы, вкапывая вертикально, словно зубы дракона. Перед ними выложены два маленьких круга по двенадцать камней каждый; они образуют примитивные солнечные часы. Несмотря на засушливое лето, цветы в этих клумбах отлично прижились. Помогает небольшое мульчирование.
В них растут молодило, очиток, армерия, гвоздика, камнеломка, смолевка, желтофиоль, пурпурный ирис, календула, бессмертник, рута, ромашка, аквилегия, садовый мак, сантолина, настурции и левкой, вечерами наполняющий воздух тяжелым запахом и влекущий к своему нектару мотыльков.
19-е, четверг. январь 1989
В сумерки, под бледной луной, выкопал крепкий побег одного из кустов бузины у Лонг Питс и посадил перед окном кухни рядом с шиповником.
В прошлом марте я сделал то же самое, посадив растение у кухонной стены; оно принялось и к концу лета было уже выше двух футов.
В Нессе бузина образует компактные пирамидальные кусты около девяти футов высотой; вокруг моего дома таких кустов четыре-пять; их обжигают соленые морские брызги, но в остальном они чувствуют себя неплохо – в этом году они заметно подросли, их почки набухают.
Бузина отгоняет ведьм и ее не стоит выкорчевывать, если растет рядом с домом.
31-е, вторник. январь 1989
Мне исполнилось 47.
Морской туман рассеялся, день солнечный и ясный. Бродя по саду, я слышал пение жаворонка. Перед домом цветут крокусы, у нарциссов уже бутоны. Розы покрылись листвой. Один из кустов розмарина зацвел; проросли круглые семена катрана.
После обеда я целый час просидел на солнце в одном свитере – никогда не делал ничего подобного в свой день рождения, который всегда был холодным, серым днем.
Разбросал по саду горсть семян катрана; они быстро прорастают, за год превращаясь в роскошные растения: большие серо-зеленые листья ловят летнюю, похожую на жемчуг росу; их совершенство не исчезает под челюстями хищных гусениц. Здесь, на краю моря, эти изысканные листья танцуют канкан среди выброшенного на берег мусора. В это время года их практически не видно, но, если присмотреться, можно заметить распускающиеся крепкие фиолетовые листья. В апреле они станут серовато-зелеными, а в июне покроются пеной из белых цветов.
1-е, среда. февраль 1989
Цветы появляются и оплетают, словно вьюнки, все тропы моего детства. Самыми любимыми были синие звездочки незабудок, мерцавшие в темноте эдвардианских кустов сада моей бабушки. Чистые снежинки, разбросанные под приветливым солнцем, и один пурпурный крокус, выделяющийся среди золотистых соседей. Дикая аквилегия, чьи цветы были похожи на позвонки, и пугающий рябчик, прячущийся по углам, словно змея…
Эти весенние цветы – мои первые воспоминания, потрясающие открытия; недолго мерцающие перед тем, как умереть, их очарование делило время на дни и месяцы, как гонг, что звал нас к обеду, нарушая мое уединение.
Гонг приносил в сад, где я был один, давящую неотвратимость того, другого мира. В то драгоценное время я стоял и смотрел, как сад растет, чего никак не понимали мои друзья. Там, в мечтах, цветы раскрывались и закрывались, роза внезапно опадала на дорожку, тюльпан терял лишь один лепесток, и его совершенство исчезало навсегда.
Пыльный плющ, страшный из-за покрывавшей его паутины; крапива, вылезавшая летом и жалившая голые колени; я научился обходить белладонну, относясь к ней с неприязненным уважением. Но из всех растений самым большим страхом наполняли меня одуванчики, из которых, если их сорвать, вытекало белое молоко.
Однако, несмотря на свои тени, бабушкин сад был солнечным местом; за ним больше не ухаживали, ограждавший его газон давно растворился в полчищах маргариток и лютиков, и он постепенно дичал.
2-е, четверг. февраль 1989
Утесник с яркими золотистыми цветами превращен ветром в скопище странных форм; перекрученные ветви искривляются, словно выжатое белье. Это единственные зимние цветы Несса; высота некоторых кустов достигает шести футов, они завершаются плотными пучками острых веток, скрипящих на ветру. Другие кусты цепляются за землю, образуя аккуратные конусы и пирамиды; кролики тщательно обгладывают их, словно делают фигурную стрижку. «Когда утесник не цветет, не время для поцелуев». Не стоит волноваться – здесь он всегда в цвету.
3-е, пятница. февраль 1989
В течение двух месяцев после переезда я каждый день часами собирал осколки бесчисленных разбитых бутылок и фарфора, куски ржавого железа. Здесь валялся велосипед, кастрюли и даже старый остов кровати. Мусор был разбросан по всему берегу. Каждый день мне казалось, что я собрал все, но потом выяснялось, что в гальке за ночь вырос еще один мусорный побег.
Для такой уборки лучше всего годились солнечные дни, поскольку стекло и черепки блестели. Многое из этого я закопал на месте старого кострища в нижней части сада, в огромной яме, которую закрыл травой, когда начал строить галечный сад.
На открытии галереи я рассказал о своем саде Мэгги Хэмблинг и добавил, что собираюсь написать об этом книгу.
Она сказала:
– Значит, ты, наконец-то, открыл природу, Дерек.
– Думаю, это не совсем то, – ответил я, думая о Констебле и Кенте Сэмюэля Палмера.
– А, понятно. Ты открыл современную природу.
В июле мой берег украсили два вида дикого мака – Papaver dubium и полевой мак-самосейка Papaver rhoeas. Я аккуратно собрал семенные шапочки и разрыхлил граблями почву, поскольку маки любят расти в свежевскопанной земле. Остальные семена разбросал по округе… Некоторые всходы уже два дюйма в вышину, но их, похоже, очень любят слизняки; впрочем, побеги выживают и скоро вырастают вновь.
В прошлом году я снимал маки и летавшую над ними пчелу, вставив эти кадры в «Военный реквием». Маки появляются во многих моих фильмах: «Воображая октябрь», «Караваджо», «Прощание с Англией» и «Военный реквием».
Алые маки
Это мак
Цветок полей и пустошей
Кроваво-красный
Два чашелистика
Опадает быстро
Лепестка четыре
Много тычинок
Лучевидное рыльце
Много зерен
Чтоб хлеб посыпать
Хлеб насущный
Вплетенный в венки
В память о мертвых
Приносит грезы
И сладость забвенья1.
6-е, понедельник. февраль 1989
Настоящий летний день; облачная гряда несколько раз то наступала на Несс, то отступала обратно. К трем начался отлив, и я за час по песку дошел до магазина Джека купить сигарет. По пути видел двух испачканных нефтью кайр: одна была уже мертва, другая не двигалась. Почти ежедневно я вижу на берегу мертвых или умирающих птиц. У меня не хватает смелости убить их; завтра, конечно, они будут мертвы и разорваны на части воронами-падальщиками, которые бродят неподалеку от чаек, ожидая конца.