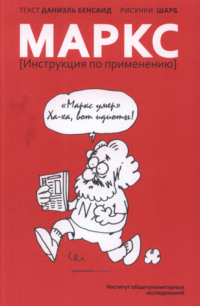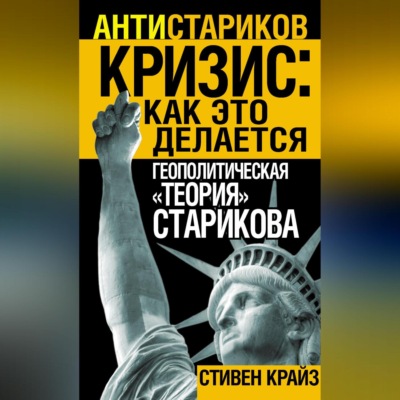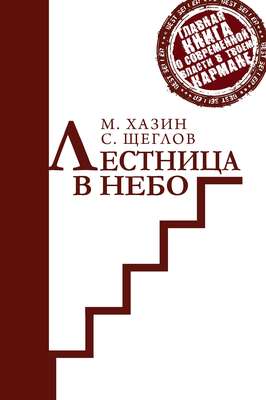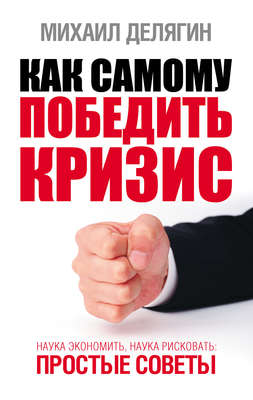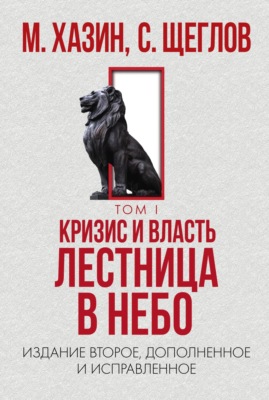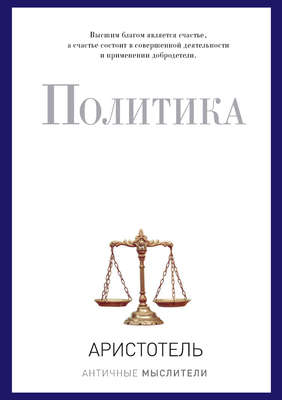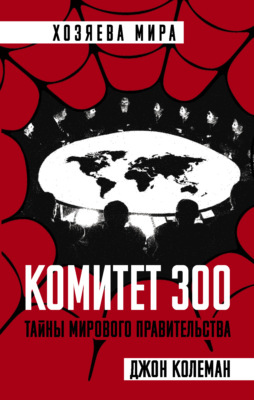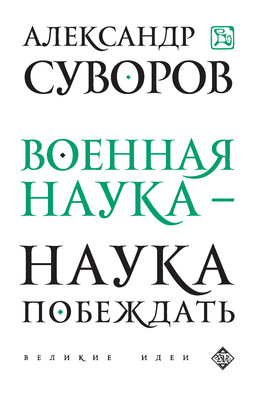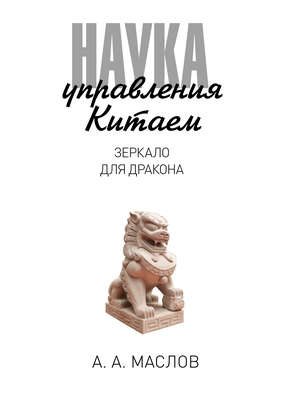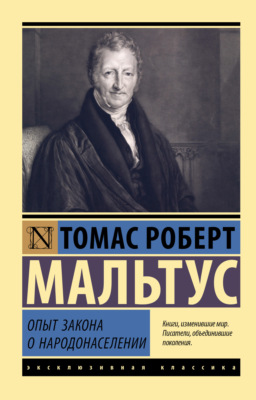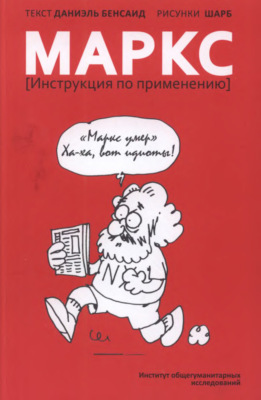Kitobni o'qish: «Маркс. Инструкция по применению», sahifa 3
«Еврейский вопрос»
Полемика Маркса против Бруно Бауэра стоила Марксу того, что уже в наши дни против него был открыт дурно пахнущий и несправедливый процесс. Легенда о Марксе-антисемите утвердилась в словаре традиционных мнений. Но, на самом деле, все эти обвинения свидетельствуют о грубом анахронизме. Расовый антисемитизм стал бурно развиваться во второй половине XIX века параллельно с колониальным расизмом, эмблемами которого можно считать теории Гобино, Чемберлена или социальный дарвинизм. Согласно «Историческому словарю французского языка», термин «антисемитизм» появляется лишь в 1879 году. До этого речь могла идти о религиозном антииудаизме, вскормленном библейским мифом. Конечно, два этих регистра могут смешиваться и перекрываться друг с другом. Что касается «сродства» евреев и денег, упоминаемого в тексте Маркса, для его эпохи это обычная литературная банальность, встречающаяся не только у таких памфлетистов, как Туссенель или Бакунин, но и у писателей – Бальзака («Банкирский дом Нусингена»), позже у Золя, а также у таких авторов еврейского происхождения, как Генрих Гейне или Моисей Гесс. А еще позже – в «Давиде Гольдере» Ирен Немировски.
Что же до Маркса, хотя его, воодушевленного универсализмом, раздражает мифология избранного народа и партикуляризм отдельного сообщества, он все равно поддерживает движение евреев в Кельне за гражданские права. В письме Руге (март 1843 г.) он рассказывает о том, как согласился составить петицию в защиту этих прав: «Только что пришел ко мне старшина местной еврейской общины и попросил составить петицию ландтагу в пользу евреев, – я это сделаю. Как мне ни противна израильская вера, но взгляд Бауэра кажется мне все же слишком абстрактным. Надо пробить в христианском государстве столько брешей, сколько возможно, и провести туда контрабандой столько рационального, сколько это в наших силах». Нисколько не противореча тезисам статьи «К еврейскому вопросу», написанной спустя несколько недель, этот жест, напротив, является ее практической иллюстрацией. Речь идет о том, чтобы «эмансипировать государство от иудейства, от христианства, от религии вообще», то есть отделить светское государство от церкви, эмансипируясь от государственной религии, сделать так, чтобы государство не проповедовало никакой религии, а представлялось именно тем, что оно есть. Нельзя думать, что человек, раз он «добился религиозной свободы», тем самым уже освобожден от религии, от собственности, от профессионального эгоизма. Иначе говоря, Маркс, ни в коем случае не являясь светским фундаменталистом, который пытался бы сделать из атеизма новую государственную религию, в вопросе свободы вероисповедания оставался либералом в старом смысле этого слова, то есть ярым защитником публичных свобод.
Когда через много лет, в 1876 году, во время лечения в Карлсбаде, он встретился с Генрихом Грецем, первопроходцем иудаистических исследований, начавшим работать еще в 1840 годах, автором «Истории еврейского народа» и сторонником дезассимиляции, у них завязались весьма теплые отношения. В знак взаимного уважения они посвящают друг другу свои работы. Поэтому Маркс очень далек от какого-нибудь Прудона, который желает закрыть все синагоги и отстаивает массовую депортацию евреев в Азию, а также от предвестников расового антисемитизма, которому суждено будет стать, если говорить словами германского социалиста Августа Бебеля, «социализмом дураков».
Первый коммунизм
Критика созерцательного и абстрактного атеизма заставляет Маркса отстраниться от позиции Фейербаха, который «не видит, что “религиозное чувство” само есть общественный продукт и что абстрактный индивид, подвергаемый им анализу, в действительности принадлежит к определенной общественной форме». Материализм Фейербаха, представляющий дух эманацией природы, а не наоборот, все равно остается на уровне представлений буржуазного общества. Его нужно преодолеть при помощи «нового материализма», который переходит к исторической точке зрения «человеческого общества, или обобществившегося человечества». «Следовательно, после того как, например, в земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна сама быть упразднена в теории и на практике.»

Этот новый социальный материализм как преодоление абстрактного атеизма – не что иное, как коммунизм: «Подобно тому как атеизм, в качестве снятия бога, означает становление теоретического гуманизма, так коммунизм, в качестве снятия частной собственности, – это требование действительно человеческой жизни, как неотъемлемой собственности человека, и означает он становление практического гуманизма. Другими словами, атеизм есть гуманизм, опосредствованный снятием религии, а коммунизм – это гуманизм, опосредствованный снятием частной собственности».
Также следует различать разные моменты в развитии коммунистической идеи. В своей примитивной форме «грубый коммунизм» желает уничтожить все, чем невозможно обладать всем сообща. Положение рабочего не упраздняется, а распространяется на всех людей. Обобщенная частная собственность находит свое «животное выражение» в общности жен. Такой вульгарный коммунизм оказывается лишь «завершением нивелирования, исходящего из представления о некоем минимуме». Уничтожение частной собственности в таком случае оказывается не ее подлинным социальным освоением, а «абстрактным отрицанием всего мира культуры и цивилизации, возвратом к неестественной простоте бедного, грубого и не имеющего потребностей человека, который не только не возвысился над уровнем частной собственности, но даже и не дорос еще до нее» («Экономическо-философские рукописи 1844 года»).
Политический или демократический коммунизм нацеливается на отмену государства, на преодоление самоотчуждения человека и на «возвращение человека к самому себе». Но «так как он еще не уяснил себе положительной сущности частной собственности и не постиг еще человеческой природы потребности, то он тоже еще находится в плену у частной собственности и заражен ею». Как положительное преодоление частной собственности «и в силу этого как подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека, коммунизм потому – полное возвращение человека к самому себе как человеку общественному, то есть человечному». В таком случае он – «действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом».

Если для преодоления идеи частной собственности «достаточно идеи коммунизма», то для преодоления реальной частной собственности «необходимо действительное коммунистическое действие», движение, которое «будет проделывать в действительности весьма трудный и длительный процесс». В общем, тогда как атеизм – всего лишь абстрактное отрицание Бога, коммунизм – его конкретное отрицание. Он доходит до корня проблем и стремится покончить на практике с миром фрустраций и убожества, в котором рождается потребность в утешении божеством.
Критика земных фетишей
Раз и навсегда покончить с небесным Богом злопамятства – значит покончить и с его земными заместителями, со всеми теми человеческими творениями, которые возвышаются перед людьми, будто бы они некие независимые силы, фетиши, игрушками которых люди как раз и становятся, и начать стоит с Государства и Денег, а также Общества и Истории.
Деньги: «все то, чего не можешь ты, могут твои деньги: они могут есть, пить, ходить на балы, в театр, могут путешествовать, умеют приобрести себе искусство, ученость, исторические редкости, политическую власть – все это они могут тебе присвоить; все это они могут купить; они – настоящая сила». Деньги кажутся простым средством, однако они – «подлинная сила и единственная цель». Они являются извращающей силой и «превращают верность в измену, любовь в ненависть, ненависть в любовь, добродетель в порок, порок в добродетель, раба в господина, господина в раба, глупость в ум, ум в глупость». Они «смешивают и обменивают все вещи», представляя собой «всеобщее смешение».
Общество – это не совокупность или тело, членами или деталями которого якобы являются индивиды: «Прежде всего следует избегать того, чтобы снова противопоставлять “общество”, как абстракцию, индивиду. Индивид есть общественное существо. Поэтому всякое проявление его жизни является проявлением и утверждением общественной жизни».

История – не какой-то всемогущий герой, не всеобщая история, по отношению к которой мы играли бы роль марионеток. В «Святом семействе» Энгельс открыто пишет: «История не делает ничего, она не сражается ни в каких битвах. “История” не есть какая-то особая личность, которая пользуется человеком как средством для достижения своих целей. История – не что иное, как деятельность, преследующего свои цели, человека». Актуальная история и будущая также не являются целью прошлой истории. Уже в 1843 году Маркс пишет о том, что составление «раз навсегда готовых решений для всех грядущих времён не есть наше дело». А в 1845 году отцы-основатели уточняют в «Немецкой идеологии»: «История есть не что иное, как последовательная смена отдельных поколений… Но в искажённо-спекулятивном представлении делу придаётся такой вид, будто последующая история является целью для предшествующей… Благодаря такому методу несложно придать истории единственное направление. Достаточно описать ее самый последний результат и представить его в качестве той задачи, которая была у нее изначально». В отличие от религиозной истории, история мирская не знает ни предназначения, ни Страшного суда. Это открытая история, которая осуществляет в настоящем «радикальную критику всего существующего порядка», ведет классовую борьбу с неочевидным исходом.
Как же умер Бог? От чего? Этому Богу злопамятства, которого двумя столетиями раньше серьезно ранили, доказав вращение Земли вокруг Солнца, обнаружив на Луне пятна, мало совместимые с божественной чистотой, и открыв эллиптическое движение планет, противоречащее совершенству круга, в XIX веке нанесли новые удары. Геологическая датировка разрушает библейский миф о сотворении. Теория эволюции связывает сотворение Адама с его животными предками. Эти накопившиеся раны уязвленного самолюбия становятся смертельными, когда люди начинают понимать, что они сами делают свою историю в условиях, которые они не выбирали. Бог в каком-то смысле – первая побочная жертва классовой борьбы, развертывающейся на сцене истории, ставшей совершенно профанной.
После сведения счетов с наследием Гегеля, разрыв с наследством Фейербаха закрепляется в «Тезисах о Фейербахе» 1845 года. Отныне «в практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления»: «Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика» (третий тезис). Теперь уже недостаточно, вопреки Фейербаху, «сводить религиозную сущность к человеческой сущности», поскольку эта сущность в своей действительность есть не что иное, как «совокупность всех общественных отношений», а «общественная жизнь является по существу практической». Потому «все мистерии, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики» (восьмой тезис).
До сего момента философы довольствовались тем, что «различным образом интерпретировали мир»; но теперь важно «изменить его». Чтобы его изменить, надо, конечно, продолжить расшифровывать и интерпретировать его, но интерпретировать уже по-другому, критически и практически. Критика религии и философии исчерпала себя. Пробил час «критики политической экономии», которая будет занимать мысль Маркса до конца его дней.
Избранная библиография
Balibar, Étienne. La Philosophie de Marx, Paris, La Découverte, «Repères», 1993.
Goldmann, Lucien. Marxisme et sciences humaines, Paris, Gallimard, «Idées», 1970.
Hyppolite, Jean. Études sur Marx et Hegel, Paris, Marcel Rivière, 1955. Kouvélakis, Stathis. Philosophie et révolution de Kant à Marx, Paris, PUF, «Actuel Marx», 2003.
Labica, Georges. Le Statut marxiste de la philosophie, Bruxelles, Complexe, 1976.
Labica, Georges. Karl Marx, les thèses sur Feuerbach, Paris, PUF, 1987.
Mandel, Ernest. La Formation de la pensée économique de Marx, Paris, Maspero, 1968.
Marx, Karl. Sur la question juive, présentation et commentaires de Daniel Bensaïd, Paris, La Fabrique, 2006.
3. Почему борьба – дело классов
Коммунизм, к которому Маркс приходит в начале 1840 годов, остается философской идеей, призраком без тела и плоти. То же можно сказать и о пролетариате. Он появляется в статье из «Немецко-французского ежегодника» по философии права в качестве «положительной возможности» общественной эмансипации. Эта возможность, на самом деле, покоится «в образовании класса, скованного радикальными цепями, такого класса гражданского общества, который не есть класс гражданского общества; такого сословия, которое являет собой разложение всех сословий; такой сферы, которая имеет универсальный характер вследствие её универсальных страданий и не притязает ни на какое особое право, ибо над ней тяготеет не особое бесправие, а бесправие вообще». Поэтому «он не может себя эмансипировать, не эмансипируя, вместе с этим, все другие сферы общества»; «Этот результат разложения общества, как особое сословие, есть пролетариат».
В момент этого шумного выхода на сцену пролетариат, даже если его формирование связано с «начинающим прокладывать себе путь промышленным развитием», все же остается абстракцией, абстрактным отрицанием собственности, но при этом и тем героем, который воплотит философию, ищущую в нем «материальное оружие», так же как и он сам ищет в ней «духовное оружие».
Короче говоря, голова и ноги.
Пролетариат из плоти и крови
Именно в Париже, в дымных рабочих кружках Сент-Антуанского предместья и среди многочисленных немецких иммигрантов Маркс обнаружит это «практические движение» и связанные с ним новые формы общительности: «К каким блестящим результатам приводит это практическое движение, можно видеть, наблюдая собрания французских рабочих-коммунистов. Курение, питье, еда и т. д. не служат уже там средствами объединения людей, не служат уже связующими средствами. Для них достаточно общения, объединения в союз, беседы, имеющей своей целью опять-таки общение; человеческое братство в их устах не фраза, а истина, и с их загрубелых от труда лиц на нас сияет человеческое благородство». Встреча с Энгельсом, принесшим с собой из Англии конкретные познания рабочего класса и чартистского движения, подтвердит это открытие.

Прежде чем столкнуться с возникновением современного пролетариата, Марксу уже приходилось работать с экономическими и социальными вопросами в ту пору, когда он руководил «Рейнской газетой». Вспоминая в 1859 году о «продвижении собственных экономических исследований», он указывает на обстоятельства, в которых ему пришлось «впервые и с немалыми затруднениями говорить о том, что называют материальными интересами». Это был 1842 год, а поводом стали дебаты в парламенте Рейнланда по вопросу кражи леса и дробления земель. В 1820-1840-х годах не только в Германии, но также во Франции времен Реставрации и в Англии с ее знаменитым законом 1834 года о бедняках был принят ряд законодательных мер, направленных против традиционных прав бедняков (таких как сбор дров, сбор колосьев, свободный выпас), позволявших им пользоваться общей собственностью, чтобы удовлетворять те или иные элементарные потребности. Речь идет о разрушении базовых форм деревенской или общинной солидарности, о превращении в товары традиционной общей собственности (такой, как лес), необходимом, чтобы вытеснить крестьян в города и заставить их продавать себя и выбиваться из сил на появляющихся промышленных предприятиях. Примерно так же либеральная контрреформа сегодня методически разрушает права наемного труда и системы социальной защиты, чтобы принудить трудящихся принимать все более жесткие условия оплаты труда и занятости.
В действительности, эти меры направлены на переопределение границы между общественным имуществом и частной собственностью. Ударяя по общинным правам пользования, они нацеливаются на то, что Маркс называет «гибридными и неопределенными формами собственности», унаследованными из далекого прошлого. Поэтому, именно отправляясь от вопроса о собственности, молодой Маркс подходит к современной классовой борьбе.

«История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы классов.» В примечании к переизданию «Манифеста коммунистической партии» Энгельс добавляет уточнение к этой первой в главе «Буржуа и пролетарии» фразе: «То есть вся история, дошедшая до нас в письменных источниках», поскольку «в 1847 г. предыстория общества, общественная организация, предшествовавшая всей писаной истории, почти совсем ещё не была известна». В те времена антропологические исследования и в самом деле были довольно невнятными.
Но даже если придерживаться писаной истории, эту формулировку можно принять только в том случае, если понимать слово «класс» в довольно широком смысле, охватывающем различные формы социальных групп (касты, кланы, ордена, сословия, статуты), а не только «современные классы», которые предполагают «свободного рабочего» и капиталистические производственные отношения. Древние общества обычно стремились к тому, чтобы «сделать ремесла наследственными, придать им окаменевшие формы каст», а различные отрасли промышленности свести к закостеневшим «формам цехов». В капиталистическом обществе рабочий не привязан с рождения к тому или иному статуту или к наследственной группе. Теоретически он свободен. Поэтому каждый может лелеять надежду на социальное продвижение, на личную удачу. Каждый может мечтать стать Генри Фордом. Но в массе своей люди все равно остаются в положении рабочих.
Если рассматривать ситуацию широко, разделение общества на классы берет начало в разделении труда. Как только благодаря орудиям производительность труда дает возможность получать и накапливать определенный излишек, появляются касты, и первые из них – священники, чья роль – подсчитывать этот общественный излишек и управлять им. В рабовладельческом или крепостном обществе отношение эксплуатации видно невооруженным глазом. Дополнительный труд извлекается за счет монополии на применение насилия – например, в форме принудительного труда или барщины. В современном рабочем контракте это насилие и принуждение скрыты, но они все равно сохраняются.

Не стоит искать у Маркса простое определение классов или статистическую таблицу социально-профессиональных категорий. Иными словами, классы у него появляются во взаимно антагонистическом отношении. Только этой борьбой и в ней они и могут определяться. То есть классовая борьба – это стратегическое, а не только и не столько социологическое понятие.