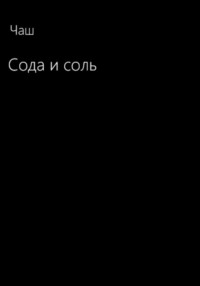Kitobni o'qish: «Сода и соль»
«То, что я делал бы с живыми детьми, я делал с этими. Я считал, что они живые – просто временно мертвые…»
Анатолий Москвин.
Беззвучное одиночество в темноте превращает каждую секунду в вечность, приравнивает само существование к нахождению в тюрьме и кажется, что не только воздух вытеснен в угоду мраку, но и тело мое насквозь им пропитано. Лишь изредка в нем является чье-то ненавязчивое присутствие, продиктованное скорее любопытством, чем милосердием.
Но путы тишины ослабевают, свобода резким звуком выдергивает меня к свету:
«Мишка очень любит мед!
Почему? Кто поймет?
В самом деле, почему
Мед так нравится ему?…»
Звуки снова стихают. Нелепое наваждение, попытка убедить саму себя, что я еще не одурела от всепоглощающей тьмы вокруг, разрывает тонкую нить надежды на связь с реальностью.
Я чувствую, как каждая секунда уравнивается с часом, месяцем, го…
– Инна! Будь тише, ты же можешь разбудить маму, – мужской голос, смутно знакомый, прорывается сквозь толщу полусгнивших воспоминаний и кажется моим освобождением.
Попытка вспомнить его лишь норовит вернуть меня обратно в пучину безбрежной пустоты, еще мгновение назад окружавшей меня, и я не рискую оказаться там снова.
– Ну же, дорогая, тебе стоит относиться к старшим с уважением, – в тоне мелькает едва различимое недовольство, хотя и сглаженное отцовской нежностью.
Не поднимаю век; не делаю ровным счетом ничего, чтобы спастись от слепоты, но мое зрение возвращается ко мне точно по зову голоса; мутными пятнами возникает перед глазами, и в какой-то момент мне удается увидеть окружающую действительность.
Свет, исходящий от распахнутого настежь окна кажется чересчур ярким, и мне требуется время, чтобы привыкнуть к нему.
Размытый силуэт незнакомца уходит из моего поля зрения. Он снова говорит, но более мягко:
– Взгляни, твоя сестра спокойно читает книгу, и никому не мешает.