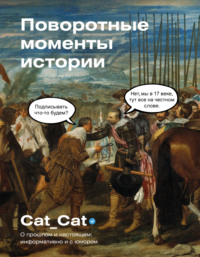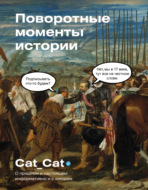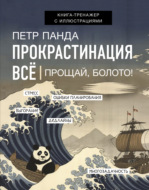Kitobni o'qish: «Поворотные моменты истории. О прошлом и настоящем: информативно и с юмором»
© Коллектив авторов Cat_Cat, текст
© Андреев А.С., иллюстрация
© ООО Издательство «АСТ»
Введение
Слышали ли вы про эффект бабочки? Когда взмах маленьких крыльев способен запустить удивительную цепочку событий и привести к урагану на другом конце света. Человеческая история состоит из множества таких вот «взмахов крыльев бабочки» – поворотных точек. Они могли быть глобальными, повлиявшими на всех, и локальными. Могли казаться эпохальными их современникам, но быть забыты потомками. И наоборот, незначительные для обитателей прошлого события в будущем приводили к колоссальным изменениям. Даже эта книга, которую вы держите в руках, появилась благодаря совокупности разных поворотных точек в истории, часть из которых теряется в глубинах веков. Так, когда каких-то две тысячи лет назад Геродот написал свой трактат «История», он едва ли осознавал, что перевернет представление людей об истории и начнет длинный путь превращения интереса к прошлому в науку.
Геродот отнюдь не был первым, кто письменно зафиксировал исторические события. Еще в древней Месопотамии и Египте занимались увековечиванием истории: делались записи, восхваляющие правителей и их достижения, велись хроники и дневники. Сегодня для нас каждое уцелевшее свидетельство этих авторов, подчас оставшихся анонимными, чрезвычайно ценно. Но сами их авторы все же не были историками, так как они лишь фиксировали некие события, не анализируя их. Многие из этих древних источников сильно ангажированы и скорее представляют собой образец пропаганды.
Пройдут тысячелетия, прежде чем в VI веке до н. э. в эллинистических Малой Азии и Греции появятся логографы (от греческогоlogos – слово, grapho – пишу), которые поставили себе цель не просто зафиксировать события прошлого в виде хроник, но и докопаться до истины о тех временах, от которых остались лишь мифы. Их объектом исследования стали предания и легенды, а инструментом – критика с позиций логики. Однако такая деконструкция мифа без четкого научного аппарата привела лишь к созданию новых, теперь уже рациональных мифов, мало связанных с подлинной историей.
Геродот был первым, кто решился отринуть события легендарные вовсе и посвятить себя всего изучению вполне реальных. Главным методом его исследования стало критическое отношение к источникам, их сравнение и анализ. Поставив себе целью написать историю событий греко-персидских войн непредвзято, он сумел достичь ранее невиданной степени нейтральности повествования. Все это вместе взятое сделало его труд революционным. Геродот создал историю как жанр литературы, а недовольный его наивностью и недостаточной критичностью Фукидид заложил основы научного подхода. И даже спустя столетия споры вокруг Геродота и созданной им «истории» не перестанут утихать, заставляя все новых и новых авторов встать на кривую дорожку исторического знания.
И вот так мы оказались здесь. Конечно, помимо трактата Геродота, на появление этой книги повлияло еще множество событий и совпадений, например, хотя бы тот факт, что всем авторам было суждено встретиться и начать общий проект Cat_Cat. Но чтобы охватить все важные моменты развития человечества, не хватит и сотни книг, поэтому под обложкой этой мы собрали наиболее интересные нам «взмахи крыльев» бабочки под названием «человечество».
Владимир Герасименко
ВКонтакте: https://vk.com/catlegatus
Две осады, изменившие все
Падение Западной римской империи (ЗРИ) – это определенно одна из самых известных поворотных точек истории. Именно это событие обычно считают водоразделом, за которым наступает Средневековье. Потомки варваров построят новые государства на руинах Империи Запада, но в то же время будут большую часть собственной истории рефлексировать по павшему колоссу. Его будут пытаться возрождать, объявлять себя его духовными и политическими наследниками, использовать его как пример для подражания и вдохновения или как пример того, как не надо делать. Великая катастрофа для Западной Европы и в то же время подлинное начало её истории.
Но, прежде чем умереть, величайшей империи нужно было еще родиться. А на этом пути было множество трудностей и развилок. По иронии судьбы, самые судьбоносные из них были прямо или косвенно связаны с осадами.
Поворот к величию
На конец V века до н. э. мало что предвещало, что Рим всего через 150 лет завоюет всю Италию, а через 400 лет – все Средиземноморье. Итальянский полуостров был довольно густонаселенным, что постоянно вызывало у всех соседей конфликты за землю. Рим не был исключением – он был лишь одним из множества центров силы, даже не самым сильным или агрессивным на тот момент. Он понемногу расширял свои владения за счёт слабых или недостаточно везучих соседей, однако масштабы этого расширения были ограничены наличием сильных соперников. Территория Рима простиралась в самой удаленной точке всего на 50 километров от города. Но некоторые соперники были куда ближе: этрусский полис Вейи находился на совершенно ничтожном расстоянии, всего в 18 км от Вечного города – это всего-то 4 часа неспешной ходьбы.
Весь V век до н. э. молодая Римская республика будет регулярно воевать с этим городом за территории. Не имея друг перед другом решительного преимущества, обе стороны не могли добиться прочного мира, так как постоянно существовал соблазн отжать у соседа немножко земель, пока тот занят другими проблемами. Вейи были занозой в боку римлян, которая, если ее не вытащить, всегда будет угрозой городу. Равно как и для вейянцев такое близкое соседство с Римом тоже было опасно. А периодически вспыхивающие войны и грабительские набеги лишь усиливали взаимную неприязнь. Поэтому обе стороны с удовольствием увидели бы друг дружку в гробике в белых сандалиях.
При этом для римлян задача победы над Вейями была нетривиальной: город располагался на скале и был хорошо укреплен. Взять его штурмом на тот момент было практически невозможно, а осада заняла бы много времени. Однако в конце V века до н. э., видя внутренние склоки в Вейях, римляне решили, что это их шанс на быстрое решение проблемы. Вероятно, они ждали, что кто-то из враждующих фракций решит заключить с ними союз ради власти над городом. Однако угроза войны с Римом привела к прямо противоположному результату – вейянцы забыли о разногласиях и объединились против старинного врага.
Для римлян эта ситуация была, мягко говоря, неприятной, так как вместо быстрой кампании нужна была длительная и муторная осада. Отказаться от войны они уже не могли, так как все нужные для этого религиозные и дипломатические процедуры были проведены, да и оставалась еще надежда на ошибки противника. Но надежды на окончание войны до конца года быстро рухнули. До этого Рим вёл преимущественно короткие кампании, ограниченные периодом между севом и жатвой. Именно на это время можно было относительно безболезненно мобилизовать ополчение на войну. Однако осада Вей потребовала гораздо больше времени, чем типичная летняя кампания. Если каждое лето осаждать город, а потом осенью уходить по домам, то война могла затянуться на десятилетия: даже если сжигать посевы противника, Вейи были достаточно богаты, чтобы покупать все необходимое у соседей в период между кампаниями.
Единственный путь, ведущий к победе, для римлян был в том, чтобы осаждать город до талого. Однако существовавшая до этого система призыва на службу просто не позволяла этого сделать – легионеры, будь они даже самыми ярыми патриотами, думали и о5своей семье, которую нужно было чем-то кормить. Чтобы призывник не опасался за благополучие, требовалось выдать компенсацию за отрыв от хозяйства. И тогда как временная мера был введён стипендиум – заработная плата легионерам.
Однако налоговая система Рима в тот момент была слабо развита. Основным источником доходов в казну были штрафы за нарушения, пошлины и военная добыча. Финансировать армию за счет этих источников не вышло бы, а потому пришлось придумать и первый в истории Рима прямой налог – трибутум. Взимался он только с военнообязанных, которые не служат в данный момент, что считалось справедливым разделением тягот от войны.
Данное решение было чрезвычайным и временным – только до окончания осады Вей. Однако, опять же внезапно для римлян, осада затянулась на годы, и временное решение, как это часто бывает, стало постоянным. Когда Вейи пали и Рим присоединил их к своим владениям, стипендиум и трибутум отменять не стали, так как их связка оказалась очень удобной. Ведь благодаря им римская армия получала большую стратегическую гибкость: можно было вести более длительные кампании на большем удалении от Рима.
Это нововведение меняло фундаментальные отношения между обществом и государством. Теперь военное могущество Рима напрямую зависело от числа людей, способных платить трибутум. Раньше система ценза (оценки имущественного состояния) была нужна только для того, чтобы определить, какой комплект вооружения военнообязанный (assiduii) может приобрести и содержать. Теперь же она стала определять ещё и размер трибутума – чем богаче ты был, тем выше был твой цензовый класс и размер военного налога.
Поэтому, чтобы содержать больше солдат, Рим теперь был заинтересован в увеличении числа ассидуев, способных платить налог. А значит, Рим должен был расширять свои территории ради включения их населения в число ассидуев, а также для наделения землёй собственных бедняков. Так у роста римских территорий появилось новое политико-экономическое обоснование, которое определит вектор дальнейшего развития Рима.
Однако появление новых военных возможностей и связанных с ними потребностей не значило, что их обязательно начнут использовать. Потому что даже переваривание захваченных земель Вей было задачей нетривиальной. Римляне пока не выработали стандартных механизмов по организации новых территорий, поэтому этот процесс был творческим и конфликтным: часть граждан хотели создать автономную от Рима колонию, другие хотели получить землю в Вейях и сохранить все гражданские права, третьи – раздать землю только своим клиентам (людям, поклявшимся в верности патрону в обмен на услуги).
Процесс внутренней борьбы за организацию новых территорий осложнялся давним противостоянием между патрициями, управляющими государством, и плебеями, имеющими очень ограниченные политические права. В результате Риму было особо не до новых захватов – тут бы внутренние проблемы разрешить. А потому, чтобы эффект от одного переломного события вступил в силу, пришлось случиться другому.
Bepul matn qismi tugad.