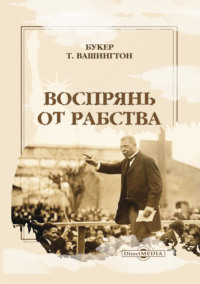Kitobni o'qish: «Воспрянь от рабства. Автобиография»
Этот том посвящен моей жене Маргарет Джеймс Вашингтон и моему брату Джону Х. Вашингтону, чье терпение, верность и трудолюбие во многом способствовали успешной работе института Таскиги
Предисловие
Этот том является результатом серии статей, посвященных случаям из моей жизни, которые были опубликованы одна за другой в журнале «Аутлук»*1. По мере того, как они появлялись в этом журнале, я постоянно удивлялся количеству обращений ко мне со всех уголков страны с просьбой навсегда сохранить статьи в виде книги. Я очень благодарен «Аутлук» за разрешение удовлетворить эти просьбы.
Я пытался рассказать простую, откровенную историю, без прикрас. Я сожалею лишь о том, насколько несовершенной была моя попытка сделать то, что я пытался сделать. Большая часть моего времени и сил уходит на работу в Педагогическом и Индустриальном Институте Таскиги*, а также на поиски средств, необходимых для поддержки этого учреждения. Многое из того, о чем я рассказал, было написано в поезде, в гостиницах или на вокзалах, пока я ждал поездов, или в те редкие моменты, которые мне удавалось выкроить из плотного рабочего графика в Таскиги. Без кропотливой работы и великодушной помощи господина Макса Беннета Трашера* я не смог бы достичь сколь-либо удовлетворительного результата.

Букер Т. Вашингтон
Введение
Подробности ранней жизни мистера Вашингтона, откровенно изложенные в книге «Воспрянь от рабства», не дают полного представления о его образовании. Он действительно получил образование, доступное цветному молодому человеку в Хэмптоне, о чем и написано в автобиографии. Но читатель не сможет сделать из этого вывод о его интеллектуальном наследии, поскольку для самого мистера Вашингтона это, возможно, не столь очевидно, как для человека со стороны. Правда в том, что в самый восприимчивый период жизни он прошел весьма необычную подготовку, которую посчастливилось получить лишь немногим представителям его поколения. Для понимания важности этого образования нужно начать с Гавайских островов, за полвека или более до настоящего момента2. Там Сэмюэл Армстронг*, чьи родители были миссионерами, заработал достаточно денег, чтобы оплатить свою учебу в американском колледже. Вооружившись этой небольшой суммой и подобающей делу серьезностью, он поступил в Уильямс Колледж*, ректором которого был Марк Хопкинс*. В то время в Уильямс Колледже было много хорошего для молодежи, как и сегодня, но самым главным преимуществом этого учебного заведения была сильная личность его знаменитого ректора. Не каждый студент способен извлечь пользу из общения с великим учителем, но, возможно, под влияние доктора Хопкинса никогда прежде не попадал ученик, способный научиться столь многому у своего наставника. Армстронг жил в семье ректора Хопкинса, и такое обучение никак нельзя назвать обычным; этот опыт непосредственно повлиял на формирование его собственного волевого характера, оригинальность и силу которого мы только начинаем осознавать.
В свою очередь, Сэмюэл Армстронг, основатель Хэмптонского института*, стал заниматься просвещением молодежи. Ему приходилось работать с очень сырым материалом, и, несомненно, большинство его учеников не смогли получить от него величайших уроков; но так же, как он сам когда-то был исключительно восприимчивым учеником доктора Хопкинса, так и Букер Вашингтон* стал его на редкость способным учеником. Таким образом, на становление личности мистера Вашингтона оказали влияние миссионерский пыл Новой Англии* и сила одной из наиболее выдающихся фигур в современном образовании, а также всеохватывающие моральные принципы самого генерала Армстронга. Эти влияния и по сей день легко прослеживаются в характере Букера Вашингтона теми людьми, которые знали доктора Хопкинса и генерала Армстронга.
Я получил представление о характере мистера Вашингтона из очень простого инцидента много лет назад. Я никогда его не видел и мало что о нем знал, кроме того, что он был директором школы в городе Таскиги, штат Алабама. У меня был повод написать ему письмо, в котором я обратился к нему «Ваше преподобие Букер Т. Вашингтон». В его ответе не было упоминания о моем обращении к нему, как к священнослужителю. Но когда в своем следующем письме я продолжил обращаться к нему подобным образом, в его ответном письме был постскриптум: «Я не претендую на титул “Ваше преподобие”». Я был знаком с большинством цветных людей, которые являлись в то время выдающимися лидерами своей расы, но все они были либо политиками, либо священнослужителями; и я не слышал ни об одном директоре крупной школы для цветных, который не был бы проповедником. «Новый тип человека в цветном мире, – сказал я себе, – новый тип человека, несомненно, если он рассматривает свою задачу как экономическую, а не богословскую». Я написал ему письмо с извинениями за то, что принял его за священнослужителя.
Когда я впервые приехал в Таскиги, меня попросили выступить с обращением к школе в воскресенье вечером. Я сидел на платформе в большой часовне и смотрел на тысячу цветных лиц, а хор из ста, а то и более человек позади меня пел знакомую религиозную песню, и все присутствующие с удовольствием присоединились к хору. Я был единственным белым человеком в помещении. Эта сцена и пение произвели на меня неизгладимое впечатление. Мистер Вашингтон встал и попросил их петь одну за другой старые песни, с которыми я был знаком всю свою жизнь, но я никогда раньше не слышал этих песен в исполнении тысячи голосов, и тем более из уст образованных чернокожих. Я ассоциировал их с черными прошлого, а не с черными, которые стремились достичь лучшего положения. Мне на ум приходили образы плантации, хижины, раба, а совсем не вольноотпущенника, стремящегося получить образование. Но на плантации и в хижине эти песни никогда не пели так, как их пела эта тысяча студентов. Я вспомнил все старые плантации, которые мне доводилось видеть, вся история чернокожих пронеслась у меня в голове; и я как никогда прежде ощутил невыразимый пафос их жизни, нашедший отражение в этих песнях.
Чего ждать от будущего? Передо мной были амбициозные юноши и девушки, которые трудились с усердием, которое может посрамить студентов большинства учебных заведений. Еще одна песня взмыла под своды часовни. И как только наступила тишина, я оказался перед этим необычайным скоплением людей, думая не о них, а о той долгой и безотрадной главе в истории нашей страны, причиной которой стала одна существенная структурная ошибка отцов-основателей Республики. Я думал об извечной серьезной проблеме, вызвавшей ожесточенные споры у целых поколений государственных деятелей, из-за нее сражался миллион человек, и она настолько мешала развитию огромного количества англичан в южных штатах, что они на сто лет отстали от своих товарищей во всех других частях света – в Англии, Австралии, северных и западных штатах; я думал о той мрачной тени, что легла на каждого государственного деятеля с широкими взглядами от Джефферсона до Линкольна. Тысячи молодых мужчин и женщин, окружающих меня, стали жертвами этой проблемы. Я тоже был ее невинной жертвой. Вся страна пострадала от этой фундаментальной ошибки – ввоза чернокожих рабов из Африки в Америку. Я твердо придерживался своего главного убеждения, что Республика обязана решительно отстаивать принцип справедливого голосования; но я вспомнил, к какому ужасному беспорядку привела Реконструкция; я вспомнил о низком уровне жизни общества во всех «черных» штатах. Кажется, что все усилия филантропов потерпели неудачу, все попытки пресечь случаи жестокого обращения имеют сомнительную ценность, а расовые трения, по ощущениям, лишь усилились. Вот она, вековая проблема со всем своим изобличительным пафосом, – сидит и поет передо мной. Кого следует жалеть больше, этих невинных жертв давней несправедливости или меня и таких, как я, кто унаследовал эту проблему? Я давно отбросил в сторону иллюзии и теории и был готов встретиться с фактами лицом к лицу и сделать всё, на что способен человек во имя Господа, чтобы избавить следующее поколение от этого тяжкого бремени. Но двадцать лет практически бесполезных размышлений, наблюдений и чтения камнем лежали у меня на душе, ведь старые проблемы никуда не исчезли, а новые прибавились. И вдруг мне стало ясно, что выход из целого столетия неудач предложил человек, который стоял рядом со мной и знакомил меня с этой аудиторией. Люди, сидящие передо мной, – это тот материал, с которым он работает. Всё, что меня окружает, – бесспорное доказательство того, что он нашел естественную линию развития. Он указал направление, в котором нужно двигаться. Время, терпение, поддержка и труд сделают всё остальное.
Именно тогда я, как никогда раньше, осознал патриотическую ценность работы мистера Вашингтона. Именно этого представления о его деятельности и о нем самом я с тех пор и придерживаюсь. Именно на этом основано его право на нашу благодарность.
Можно научить чернокожего читать, будь то на английском, греческом или иврите, но красивыми словами сыт не будешь. Можно заставить чернокожего работать – это то, к чему с одной стороны его принуждал хозяин, а с другой – голод; но и то и другое привело Юг к той жизни, которую мы видим там сейчас. Однако научить чернокожих выполнять свою работу искусно, как это делали люди всех рас, которые многого добились, способствовать тому, чтобы они получили образование и стали сильными личностями, и, что самое важное, сделать так, чтобы чернокожие обучали других чернокожих тому, чему научились сами с миссионерским рвением, способным затмить любые обычные филантропические усилия – значит кардинально изменить экономическую основу жизни и характер народа.
Сам план не новый. Он был разработан в Хэмптонском институте, но в Хэмптоне это сделали белые. На самом деле план не раз был изложен в теории теми, кто внимательно изучает жизнь Юга. На самых эффективно управляемых плантациях ремеслам обучали и во времена рабства. Тем не менее Таскиги – это совершенно новая глава в истории чернокожих и в истории самой сложной проблемы, с которой нам когда-либо приходилось сталкиваться. Этот институт не только делает «плотника из человека; он делает человека из плотника». Поэтому в определенном смысле Таскиги имеет большую ценность, чем любое другое учебное заведение для мужчин и женщин от Кембриджа до Пало-Альто. Это практически единственное место, о котором можно сказать, что оно прокладывает дорогу в новую эпоху для значительной части населения страны.
Разработать план на бумаге или на расстоянии – это одно дело. Для белого человека составить такой план – тоже не проблема. Разработать подобный план для цветного на Юге, где в период его создания он неизбежно сталкивался с непониманием как со стороны своего собственного народа, так и белых, и где ему на каждом шагу приходилось подстраиваться под напряженные расовые отношения – это совершенно иное и намного более сложное дело, и страна еще долго будет признательна человеку, который справился с этой задачей.
Эта задача не была и не является исключительно образовательной. Любой может обучить мальчиков ремеслам и дать им начальное образование. Так поступали с самого начала существования цивилизации. Но эту задачу предстояло выполнить с использованием наисырейшего сырья в рамках цивилизации доминирующей расы, и не преступая при этом расовые и социальные границы, которые играют определяющую роль в обществе. Это необходимо было сделать на благо всего общества. Более того, задачу пришлось выполнять без помощи местных жителей, в условиях крайней нищеты, прося милостыню, и вопреки невежеству одной расы и предрассудкам другой.
Прежде никому не доводилось сталкиваться с более сложным вызовом, с задачей, которая потребовала бы столько мудрости, для того чтобы сделать всё правильно. Таким образом, истинным мерилом успеха мистера Вашингтона является не то, что он преподает в Таскиги, и даже не получение пожертвований от филантропов издалека, а то, что он добился искреннего признания ценности своего труда от каждого белого южанина, обладающего сильным характером и мудростью, и даже от тех, кто до сих пор придерживается мнения, что простое книжное образование для чернокожих жителей Юга в нынешних условиях является абсолютным злом. Эффективность идеи Хэмптон-Таскиги является неоспоримым доказательством ценности демократических институтов, даже несмотря на непреодолимые трудности.
Рассмотрим изменения, которые произошли за двадцать лет в обсуждении проблемы чернокожих. Два или три десятилетия назад социальные философы и статистики, а также благонамеренные филантропы все еще говорили и писали о депортации чернокожих, или об их поселении на ограниченной территории, или о том, что они расселились по всем частям Союза*, или о том, что черные деградируют из-за пренебрежительного отношения к своим детям, или о том, что их скоро станет так много, что они вытеснят белых с Юга, а также о другой полнейшей ерунде. Ответом на эту критику стало внедрение простого плана обучения неблагополучных классов обеих рас по системе Хэмптон-Таскиги. В известном смысле «проблема» исчезла. В будущем скорость развития населения и земель Юга будет зависеть от скорости развития такого рода обучения. Именно это изменение взглядов и является подлинным мерилом работы мистера Вашингтона.
Вклад черного населения Америки в литературу колоссален – начиная с политических выступлений и аболиционизма до романов «Хижина дяди Тома» и «Хлопок – король»* – огромное количество книг, на чтение которых многие люди (и я в том числе) потратили лучшие годы своей жизни; но единственные произведения, которые я прочел второй раз или когда-либо захочу прочесть снова из всего этого длинного списка книг (большинство из которых написаны скучными и неуравновешенными «реформаторами»), – это «Сказки дядюшки Римуса»* и «Воспрянь от рабства», ибо это дейсвительно великая литература о жизни чернокожих. В одной книге собрано всё лучшее из прошлого, другая – предрекает лучшее будущее; и авторы этих произведений – единственные люди, писавшие с той полной откровенностью, идеальным знанием и исключительным достоинством, которые иначе можно назвать гениальностью.
Мистер Вашингтон завоевал всемирную славу в раннем возрасте. Думаю, что история его собственной жизни уже переведена на большее количество языков, чем любая другая американская книга; и я полагаю, что круг влиятельных людей, с которыми он лично знаком, у него шире, чем у любого ныне живущего человека.
То, как Букер Вашингтон преподает в Таскиги, – уникально. Он читает своим лучшим ученикам лекции по искусству правильной жизни, которые основаны не на учебниках, а на жизненном опыте, а затем отправляет их в деревни, где они встречаются с негритянскими семьями. Такой студент вернется с подробнейшим отчетом о том, как живет семья, с которой он встречался, каков ее доход, что в ней делают хорошо, а что плохо; и сможет объяснить ей, как улучшить свою жизнь. Такой ученик составит конкретный план по улучшению положения этой отдельно взятой семьи, исходя из имеющихся у нее ресурсов, и, если он умен, получит больше пользы от этого опыта, чем от всех книг по социологии и экономике, которые когда-либо были написаны. Я разговаривал с юношей из Таскиги, который провел такое исследование, и не мог удержаться от того, чтобы сравнить его знания и энтузиазм с тем, что я слышал в аудитории университета для чернокожих в одном из городов Юга, где руководствовались идеей о том, что учеба в колледже спасет душу. Здесь класс декламировал урок из заумного учебника по экономике, механически повторяя заученные фразы с такой очевидной неспособностью усвоить материал, что было жаль потраченных впустую усилий.
Много лет назад я спросил мистера Вашингтона, что он считает самым важным результатом своей работы, и он ответил:
«Я не знаю, что поставить на первое место, эффект от работы Таскиги на чернокожего или его влияние на отношение белого человека к черному».
Разрыв между расами в условиях плохой системы образования быстро увеличивался. Под влиянием идеи Хэмптон-Таскиги белые и черные начали больше симпатизировать друг другу, их отношения стали более достойными и полезными. По мере того как чернокожий обретает экономическую независимость, он начинает играть активную роль в жизни Юга, и таким образом получает признание со стороны белых. И это заложено в самой природе вещей. В этом нет ничего искусственного. Это совершенно естественный путь развития. И белые южане не только признают этот путь, но и копируют его при обучении неблагополучных групп населения своей собственной расы. Так вышло, что школа стала оказывать более прямое и продуктивное воздействие на жизнь Юга, чем где бы то ни было в стране. Образование не находится в отрыве от реальности – это не «система», не философия, это самое что ни на есть непосредственное обучение тому, как жить и как работать.
Сказать, что мистер Вашингтон снискал благодарность всех думающих белых южан, – значит сказать, что при работе над серьезной конструктивной задачей он проявил величайшую житейскую мудрость, ибо ни один план по развитию вольноотпущенников не смог бы увенчаться успехом, если бы противоречил мнению южан. Заручиться поддержкой южан и оказывать вляние на формирование их мнения было неотъемлемой частью работы Букера Вашингтона. Он настолько хорошо справился с этой сложной задачей, что заслужил искреннее и глубокое уважение Юга. Однажды мистер Вашингтон сказал мне, что помнит тот день, и вспоминает его с благодарностью, когда стал относиться к белому южанину так же, как он относится к белому северянину. Это – добрый знак для нашей общей страны, что настало время, когда мистера Вашингтона и его работу стали так же высоко ценить на Юге, как и в любой части Союза. Я думаю, что ни одному нашему современнику не удалось добиться более значительного успеха; и это стало возможным благодаря высоким моральных принципам и волевому характеру человека, который оказал огромную услугу нации.
Уолтер Х. Пейдж*
Глава I. Раб среди рабов
Я родился рабом на плантации в округе Франклин, штат Вирджиния. Точного места и времени своего рождения я не знаю, но где-то и когда-то я должен был появиться на свет. Насколько мне удалось узнать, это случилось неподалеку от почтового отделения под названием «Гейлс Форд»* в 1858 или 1859 году. Я не знаю ни месяца, ни дня моего рождения. Мои самые ранние воспоминания – это плантация и кварталы рабов – последние были частью плантации, где находились хижины невольников.
Моя жизнь началась посреди самого убогого, запущенного и удручающего окружения, но не потому, что мои хозяева были особенно жестоки по сравнению с другими, напротив, они отнюдь не были такими. Я родился в типичной негритянской хижине, площадью четырнадцать на шестнадцать квадратных футов, и жил там с матерью, братом и сестрой вплоть до окончания Гражданской войны*, когда всех нас объявили свободными.
О своем происхождении я практически ничего не знаю. Когда я жил в квартале рабов, да и позднее тоже, я слышал, как цветные люди шепотом рассказывали о пытках, которым подвергались рабы, и в том числе, несомненно, мои предки по материнской линии, пока рабовладельческий корабль вез их из Африки в Америку. Из своей семьи я не знал никого, кроме матери. Но у нее, насколько мне известно, были сводный брат и сводная сестра. Во времена рабства семейной истории и семейным архивам не придавали большого значения, по крайней мере в семьях чернокожих. Моя мать, по всей видимости, приглянулась какому-то плантатору, который впоследствии стал моим и ее хозяином. Когда она пополнила ряды рабов на плантации, это привлекло не больше внимания, чем покупка новой лошади или коровы. О своем отце я знаю еще меньше, чем о своей матери. Даже его имени я не знаю. Ходили слухи, что он был белым человеком, который жил на одной из близлежащих плантаций. Кем бы ни был мой отец, он ни капельки не интересовался мной и не принимал участия в моем воспитании, но я не виню его в этом. Он просто был еще одной несчастной жертвой института, который в то время, к несчастью, был навязан ему страной.
Хижина была не только местом, где мы жили, но и использовалась в качестве кухни для всей плантации, где мать работала кухаркой. Окна в хижине были без стекол – это были простые отверстия в стене, которые пропускали как солнечный свет, так и холодный, промозглый зимний воздух. Внутрь входили через дверь (точнее, через нечто, называемое дверью) – ненадежные петли, на которых она висела, и большие щели в ней, не говоря уже о том, что она была слишком маленькой, делали хижину крайне неуютной. Помимо отверстий в стене, в правом нижнем углу комнаты находилось еще одно – «кошачий лаз», который был практически в каждом доме или хижине в Вирджинии в довоенный период.
«Кошачий лаз» – это квадратное отверстие, размером примерно семь на восемь дюймов, предусмотренное для того, чтобы кошка при желании могла беспрепятственно входить и выходить из дома ночью. В нашем случае я никогда не мог понять целесообразность такого лаза, поскольку в доме и так было с полдюжины дыр, куда могла запросто пролезть кошка. Полом в хижине служила голая земля, а в центре была большая яма, прикрытая досками, в которой мы зимой хранили сладкий картофель*. Эта яма отчетливо врезалась в мою память, поскольку при закладывании и извлечении оттуда картофеля мне часто перепадала пара штук, которые я жарил и уплетал с огромным удовольствием. На нашей плантации не было плиты, и всю еду для белых и рабов моя мать готовила в открытом очаге, в основном в котелках и на сковородах с длинной ручкой. И если зимой мы страдали от холода и сквозняков, то летом не меньшим испытанием был жар из открытого очага.
Первые годы моей жизни, проведенные в маленькой хижине, ничем не отличались от жизни тысяч других рабов. Моя мать, конечно же, не могла уделять много времени воспитанию своих детей в течение дня. Она выкраивала несколько мгновений, чтобы позаботиться о нас ранним утром перед началом работы и ночью после завершения рабочего дня. Одно из моих самых ранних воспоминаний о том, как мама готовит поздно ночью цыпленка и будит нас, своих детей, чтобы накормить. Как и где она раздобыла цыпленка, я не знаю, но предполагаю, что она взяла его с фермы нашего хозяина. Некоторые могут назвать это воровством. Если бы подобное произошло сейчас, я бы и сам осудил такие действия. Но учитывая то, где, когда и по какой причине это произошло, никому не удастся убедить меня в том, что моя мать – воровка. Она просто была жертвой системы рабства. Я не припомню, чтобы мне приходилось хоть раз спать в постели, прежде чем наша семья была объявлена свободной в соответствии с Прокламацией об освобождении рабов*. Трое детей – Джон, мой старший брат, Аманда, моя сестра, и я – спали на убогом тюфяке на грязном полу, или, если быть более точным, мы спали на полу в куче грязного тряпья.
Не так давно меня попросили рассказать о том, в какие игры я любил играть в детстве и каким спортом увлекался. До этого момента я даже не задумывался о том, что в моей жизни вообще не было периода, когда я играл. Сколько я себя помню, я почти каждый день трудился с утра до вечера, хотя мне кажется, что от меня сейчас было бы куда больше пользы, если бы в детстве я находил время для игр. Пока я находился в рабстве, я был еще слишком мал для серьезной работы, но все же я почти целый день был занят уборкой дворов, носил воду мужчинам в полях, а раз в неделю отвозил зерно на мельницу. Мельница находилась приблизительно в трех милях от плантации. Я всегда боялся этой работы. Тяжелый мешок с зерном закидывали на спину лошади, стараясь равномерно распределить тяжесть; но каким-то образом почти каждый раз во время этих поездок зерно пересыпалось на одну сторону, и, когда нарушалось равновесие, мешок падал с лошади, а вместе с ним и я. Поскольку я был недостаточно силен, чтобы загрузить мешок обратно на лошадь, я порой ждал по нескольку часов, пока меня не выручит случайный прохожий. Часы ожидания я обычно проводил в рыданиях. Из-за упущенного времени я опаздывал на мельницу, и когда я возвращался домой с молотым зерном, была уже глубокая ночь. Дорога была пустынной и часто шла сквозь густой лес. Мне всегда было страшно. Ходили слухи, что в лесах полно солдат, дезертировавших из армии, и я слышал, что если дезертиру в руки попадался чернокожий мальчик, то он первым делом отрезал ему уши. К тому же я знал, что за опоздание домой мне грозит выговор, а то и порка.
Пока я был рабом, меня ничему не учили, но я помню, что несколько раз провожал до дверей школы одну из своих юных хозяек, неся ее книги. Вид нескольких дюжин мальчиков и девочек, занимающихся в классе, произвел на меня неизгладимое впечатление, и мне казалось, что попасть в школу и учиться там – это почти такое же блаженство, как попасть в рай.
Насколько я сейчас помню, первое понимание того, что мы были рабами и что обсуждалась возможность нашего освобождения, пришло ко мне однажды ранним утром, когда я проснулся от того, что мама, стоящая на коленях над своими детьми, горячо молилась о том, чтобы Линкольн и его войска одержали победу и чтобы однажды она и ее дети смогли обрести свободу. В связи с этим я никогда не мог понять, каким образом рабы по всему Югу, в массе своей совершенно невежественные и далекие от чтения книг или газет, могли быть так прекрасно осведомлены о важных вопросах, волновавших страну. С тех пор, как Гаррисон*, Лавджой* и другие начали выступать за отмену рабства, рабы по всему Югу внимательно следили за развитием этого движения. Хотя я был еще ребенком в период подготовки к Гражданской войне и во время самой войны, но сейчас вспоминаю, что слышал, как моя мать и другие рабы с плантации много раз по ночам шепотом вели дискуссии. Из этих обсуждений становилось ясно, что они понимали ситуацию и оставались в курсе событий благодаря сообщениям, передаваемым по так называемому телеграфу «виноградная лоза»*.
Во время предвыборной кампании, когда Линкольн впервые выдвинул свою кандидатуру на пост президента, рабы на нашей далекой плантации, находящейся в милях от любой железной дороги, большого города или ежедневной газеты, отлично понимали, как важно для них его избрание. А когда началась война между Севером и Югом, каждый раб на нашей плантации чувствовал и знал, что главным поводом для нее, хотя были и другие, стало рабство. Даже самые невежественные представители моей расы на отдаленных плантациях в глубине души знали с уверенностью, не подлежащей сомнению, что освобождение рабов будет единственным великим результатом войны, если армии Севера одержат победу. За каждой победой армии Союза и каждым поражением сил Конфедерации* чернокожие наблюдали с самым пристальным и живым интересом. Рабы нередко узнавали о результатах великих сражений раньше, чем белые. Новости, как правило, сообщались цветным человеком, отправлявшимся на почту. В нашем случае почта находилась примерно в трех милях от плантации, а письма приходили раз или два в неделю. Человек, которого посылали в почтовое отделение, задерживался там достаточно долго, чтобы прислушаться к разговорам белых, обсуждающих последние новости после получения писем. На обратном пути к дому хозяина посыльный, само собой, делился новостями с другими рабами, и таким образом они часто узнавали о важных событиях раньше белых господ в «большом доме», как называли дом хозяина.
За всё мое детство и отрочество я не помню, чтобы мы хоть раз сидели вместе за столом, просили Божьего благословения и обедали цивилизованным образом. На плантации в Вирджинии и позже дети получали еду, как глупые животные. То перепадет ломоть хлеба, то мясные обрезки. Здесь достанется чашка молока, там немного картошки. Порой одна часть нашей семьи ела из сковороды или котелка, а другая из оловянной миски, стоящей на коленях, причем зачастую еду брали прямо руками, не используя столовые приборы. Когда я достаточно подрос, мне было поручено ходить в «большой дом» в обеденное время, чтобы отгонять мух от стола с помощью целой системы висящих над столом бумажных опахал, управляемых с помощью шкива. Главной темой обсуждения у белых людей, естественно, было освобождение чернокожих и война, и я многое усвоил из их бесед.
Я помню, что однажды увидел, как две мои юные хозяйки и несколько дам, приехавших в гости, ели во дворе имбирные пряники. Тогда эти пряники казались мне самыми заманчивыми и желанными лакомствами из всех, что я когда-либо видел, и в тот момент я решил, что если я когда-нибудь стану свободным, то пределом моих мечтаний будет раздобыть имбирные пряники и есть их так, как эти барышни.
Чем дольше затягивалась война, тем сложнее белым людям становилось обеспечить себя продовольствием. Я думаю, что рабы меньше ощущали лишения, чем белые, поскольку обычной пищей рабов были кукурузный хлеб и свинина, а их можно было выращивать на плантации, но кофе, чай, сахар и другие продукты, к которым привыкли белые, невозможно было вырастить на плантации, а в условиях войны достать их зачастую не удавалось. Белые нередко оказывались в очень стесненном финансовом положении. Вместо кофе использовали обжаренные зерна кукурузы, а вместо сахара – черную патоку. Часто так называемые чай и кофе вообще ничем не подслащивали.
Я помню, что моя первая обувь была деревянной. Верхняя часть башмаков была сделана из грубой кожи, но вот подошва, толщиной около дюйма, была деревянной. Когда я шел, ботинки издавали страшный грохот и, кроме того, были очень неудобными, поскольку подошва не сгибалась при ходьбе. Носивший такую обувь человек выглядел крайне неуклюже. Но самым суровым испытанием для меня было ношение льняной рубашки. В той части Вирджинии, где я жил, при пошиве одежды для рабов было принято использовать лен. Тот лен, из которого изготавливалась наша одежда, в основном представлял собой очески – самую дешевую и грубую часть сырья. Я с трудом могу себе представить пытку, за исключением, пожалуй, выдергивания зуба, равносильную той, что я испытывал, впервые надев новую льняную рубашку. По ощущениям это сравнимо с тем, что в вашу плоть впивается дюжина или более каштановых колючек или сотня крошечных иголок. И по сей день я отчетливо помню муки, которые я испытывал, надевая . Как назло, моя кожа была очень чувствительной и нежной, отчего боль ощущалась еще сильнее. Но выбора у меня не было. Я должен был носить льняную рубашку или не носить никакой, и, будь моя воля, я бы предпочел ходить голым. Впрочем, мой старший брат Джон не раз оказывал мне величайшую услугу, на которую способен раб ради своего родственника: когда мне приходилось надевать новую льняную рубашку, он великодушно соглашался поносить ее несколько дней вместо меня, пока она не «разносится». Такие рубашки оставались моей единственной одеждой до тех пор, пока я не стал юношей.