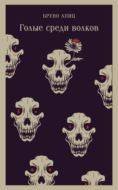Kitobni o'qish: «Голые среди волков»
Bruno Apitz
NACKT UNTER WÖLFEN
Bruno Apitz: Nackt unter Wölfen. Roman + © Aufbau Verlage GmbH & Co. KG, Berlin 2012 +
Re-edition of the first edition published at Mitteldeutscher Verlag Halle in 1958 extended by unpublished passages from the first manuscript and the last edited manuscript before first publication.
© Горфинкель Д., перевод на русский язык, наследники, 2024
© Мальки М., перевод на русский язык, 2024
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024
Иллюстрация на обложке Натальи Портяной
* * *
Голые среди волков
Этой книгой я отдаю дань уважения нашим боевым товарищам всех национальностей, которых на пути, усеянном жертвами, нам пришлось оставить в лагере Бухенвальд.
В их честь я назвал их именами многих героев книги.
I
Деревья на вершине Эттерсберга сочились сыростью и словно замерли в безмолвии, которое окутывало гору, обособляя ее от окружающей местности. Листва, пролежавшая под снегом, бурая, истощенная, догнивала на земле, поблескивая влагой.
Весна поднималась сюда нерешительным шагом.
Щиты, установленные между деревьями, казалось, предостерегали ее:
«Зона комендатуры концентрационного лагеря Бухенвальд. Внимание! Опасно для жизни! Проход воспрещен. Охрана стреляет без предупреждения».
А вместо подписи – череп и две скрещенные кости.
Беспрестанно моросивший дождь не давал просохнуть шинелям пятидесяти эсэсовцев, которые в предвечерний час в марте 1945 года стояли под навесом на бетонном перроне. У этого перрона, называемого «станцией Бухенвальд», кончалась железнодорожная ветка, проложенная от Веймара до вершины Эттерсберга. Поблизости находился лагерь.
На его обширном, покатом к северу аппельплаце1 выстроились заключенные для вечерней поверки. Блок за блоком – немцы, русские, поляки, французы, евреи, голландцы, австрийцы, чехи, богословы, уголовники… – необозримая масса, согнанная в ровный гигантский квадрат.
Сегодня заключенные тайком перешептывались. Кто-то принес в лагерь известие, что американцы перешли Рейн под Ремагеном…
– Слыхал? – спросил Герберта Бохова староста блока Рунки, стоявший рядом с ним в первой шеренге тридцать восьмого блока. Бохов кивнул. – Говорят, они закрепились на правом берегу.
В их перешептывание вмешался Шюпп, стоявший позади, во второй шеренге:
– Ремаген? Это еще очень далеко.
Ему не ответили. Он заморгал, уставясь в затылок Бохову. На простодушно-удивленном лице лагерного электрика Шюппа, с приоткрытым ртом и чуть вытаращенными глазами за стеклами очков в черной оправе, отразилось возбуждение от неожиданного известия. В шеренге стали перешептываться, но Рунки пресек разговоры, прошипев: «Идут!» От ворот лагеря приближались блокфюреры, эсэсовцы низших рангов, направляясь к подчиненным им блокам. Шепот затих, лица окаменели.
Ремаген!
Это действительно еще очень далеко от Тюрингии.
И все-таки. Благодаря решающему зимнему наступлению Красной армии, которая через Польшу вторглась в Германию, фронт на западе пришел в движение.
Лица заключенных ничем не выдавали волнения, вызванного этим известием.
Каждый молча равнялся на впереди стоящего и на соседа, тайно следя взглядом за блокфюрерами, которые обходили блоки и пересчитывали заключенных. Равнодушно, как и в любой другой день…
У ворот староста лагеря Кремер подал коменданту список общего состава и стал, как полагалось, чуть в стороне от гигантского квадрата. Лицо его было непроницаемо, хотя мысли – те же, что и у десятков тысяч стоявших позади него.
Блокфюреры давно уже подали коменданту Райнеботу свои рапорты и гурьбой встали у ворот. Тем не менее прошел еще целый час, прежде чем цифры сошлись. Наконец Райнебот шагнул к укрепленному на штативе микрофону.
– Внимание! Смирно!
Гигантский квадрат застыл.
– Шапки долой!
Заключенные разом сорвали с голов замусоленные шапки. У кованых ворот помощник начальника лагеря Клуттиг выслушал рапорт коменданта. Потом лениво поднял правую руку. Так повторялось из года в год.
Между тем новость не давала Шюппу покоя. Он больше не мог молчать и, скривив рот, пробормотал в затылок Бохову:
– Начальство-то скоро понос прохватит!
Бохов спрятал улыбку в складках неподвижного лица.
Райнебот снова подошел к микрофону:
– Шапки надеть!
Руки вскинулись. Шапки нахлобучили, как пришлось, кто – набекрень, кто – поперек, и заключенные стали похожи на компанию весельчаков. Зная, что военная точность доводила в этом случае до комизма, комендант по привычке скомандовал в микрофон:
– Поправить!
Десятки тысяч рук затеребили шапки.
– Отставить!
Руки хлопнули по швам брюк. Теперь, должно быть, шапки сидели ровно. Квадрат стоял навытяжку.
Эсэсовцы в своих взаимоотношениях с заключенными намеренно игнорировали войну. В лагере все шло по заведенному распорядку день за днем, как если бы время здесь остановилось. Но автоматическое исполнение этого распорядка не заслоняло реальной жизни. Всего лишь несколькими днями раньше города Кольберг и Грауденц «пали, героически сопротивляясь превосходящим силам врага…».
Красная армия!
«Форсирование Рейна под Ремагеном…»
Союзники! Клещи сжимались!
Райнебот скомандовал:
– Вещевая команда – на склад! Парикмахеры – в баню!
Ничего необычного для лагеря в этом распоряжении не было. Просто, как уже не раз за последние месяцы, прибывал новый транспорт заключенных. Эвакуировались концентрационные лагеря на востоке: Освенцим, Люблин…
Бухенвальд, переполненный до отказа, вынужден был принимать еще и еще. Число вновь прибывающих росло, как столбик ртути в термометре у лихорадящего больного. Куда девать людей? Чтобы как-нибудь разместить массовое пополнение, пришлось срочно строить бараки в пределах лагерной зоны, поодаль от основного лагеря. Людей тысячами загоняли в бывшие конюшни. Вокруг конюшен возвели двойную ограду из колючей проволоки, и то, что здесь возникло, стали называть Малым лагерем.
Лагерь в лагере, обособленный, живущий по своим законам. Здесь ютились представители всех европейских наций. Никто не знал, где их родной дом, о чем они думают, да и говорили многие из них на языках, которых никто не понимал. Безымянные, безликие существа. Эсэсовская администрация больше не имела представления о составе заключенных Малого лагеря.
Половина отправленных из других лагерей умерла в пути или была пристрелена эсэсовским конвоем. Трупы оставляли на дорогах. Пересылочные списки не сходились. Номера заключенных перепутались, – номера живых с номерами мертвых. Как звали этих людей, кто они и откуда – никому не было известно…
– Разойдись!
Райнебот выключил микрофон. Гигантский квадрат ожил. Слышались команды старост. Блок за блоком приходил в движение. Огромное людское скопище растекалось, устремляясь по аппельплацу к баракам. Блокфюреры исчезли за воротами.
В то же время к станции подошел товарный состав с новой партией заключенных. Не успел поезд остановиться, как вдоль вагонов, срывая с плеч карабины, побежали эсэсовцы. Они откидывали засовы и раздвигали двери.
– А ну, выходи, падаль вонючая!
Заключенные, сгрудившись, стояли в зловонной тесноте вагонов, от внезапного притока свежего воздуха у людей закружилась голова. Под крики эсэсовцев они протискивались к дверям и прыгали вниз, валясь друг на друга. Эсэсовцы сгоняли их на перроне в беспорядочную кучу. Подобно лопнувшим нарывам, извергали вагоны свое содержимое.
Одним из последних прыгал польский еврей Захарий Янковский. Когда он взялся за свой чемодан, эсэсовец ударил его прикладом по руке.
– Жид проклятый!
Янковскому удалось поймать чемодан, который разъяренный эсэсовец швырнул ему вслед.
– Верно, у тебя там ворованные брильянты, сволочь!
Янковский с чемоданом нырнул под защиту толпы.
Эсэсовцы забрались в вагоны и прикладами выталкивали тех, кто еще не вышел. Больных и обессилевших сбрасывали вниз, как мешки. Остались только мертвые, которых во время долгого переезда складывали в углу, с трудом выделив для этого место. Один из трупов застыл в полусидячем положении и скалился в сторону эсэсовца.
Почти в каждом бараке была географическая карта, приклеенная к стене или к конторке старосты, обычно опытного, просидевшего много лет заключенного. Эти карты вырезали из газет еще в то время, когда фашистские войска двигались через Минск, Смоленск, Вязьму на Москву и позже – через Одессу и Ростов на Сталинград.
Блокфюреры, в основном злобные эсэсовцы, любители рукоприкладства, не возражали против появления карт, и даже порой, когда были в хорошем настроении, а кругом гремели победные фанфары, они самодовольно постукивали пальцем по названиям русских городов: «Ну, где ваша Красная армия?»
Это было давно.
Теперь они старались не замечать этих карт. Не видели они и черточек, проведенных на картах заключенными. Толстых и тонких, синих, красных и черных.
Захватанные тысячью пальцев, названия прежних мест боев стерлись, превратившись в черные пятна. Гомель, Киев, Харьков…
Кого они теперь интересовали?
Теперь дело шло о Кюстрине, Штеттине, Грауденце, о Дюссельдорфе и Кёльне.
Но и эти названия большей частью представляли собой шершавые пятна. Сколько раз здесь писали, зачеркивали, стирали и снова писали, пока от тонкой газетной бумаги остались дырки.
Тысячи пальцев скользили вдоль линий фронтов, замазывали их, стирали. Неудержимо приближалась развязка!
Вот и сейчас заключенные, наполнив шумом затихавшие на день бараки, облепили карты.
В тридцать восьмом бараке сквозь кучку заключенных, изучавших карту на конторке старосты, протиснулся Шюпп.
– Ремаген. Вот он – между Кобленцем и Воином.
– Сколько же оттуда еще до Веймара? – спросил кто-то.
Шюпп по привычке сделал удивленное лицо и заморгал, стараясь уловить мелькнувшую мысль.
– Вот подойдут они поближе…
Его палец проделал по карте предстоящий путь: Эйзенах, Лангензальц, Гота, Эрфурт…
Наконец Шюпп поймал ускользавшую мысль:
– Когда они будут в Эрфурте, то будут и в Бухенвальде.
Но когда? Через несколько дней? Недель? Месяцев?
– Поживем – увидим. Только ничего хорошего не жди. Думаешь, эсэсовцы так просто отдадут нас американцам?! До этого они всех нас укокошат.
– Смотри, не обделайся заранее со страху! – ввернул Шюпп.
В группу вклинился дневальный.
– Тащили бы лучше миски, жрать пора!
Застучали деревянные башмаки, задребезжали миски.
Толпу прибывших построили в колонну, и заключенные, сопровождаемые эсэсовской сворой, спотыкаясь, двинулись к лагерю.
Янковскому удалось втиснуться в середину шеренги и тем самым спастись от ударов свирепствовавших эсэсовцев. Шагая в колонне, никто не думал о соседе. Каждый был полон тревоги перед тем неизвестным, что ожидало его самого. Больных и ослабевших поддерживали по привычке, превратившейся в животный инстинкт самосохранения. Так, нетвердым шагом колонна ползла по дороге и через ворота вливалась в лагерь.
Онемевшая от удара эсэсовца рука Янковского висела, словно чужая, и страшно болела. Но, сосредоточив все свое внимание на чемодане, он почти забыл о боли. Чемодан во что бы то ни стало надо было пронести в новый лагерь.
Янковский зорко оглядывался по сторонам. Толпа тащила его в ворота. Опыт помог ему спрятаться так искусно, что он, не замеченный эсэсовцами, в общей давке проник в лагерь.
Чудом было, что он вообще довез сюда свой чемодан. Янковский, дрожа, отгонял от себя мысль об этом, чтобы не спугнуть чуда. Только в одно верил он горячо: милосердный бог не допустит, чтобы чемодан попал в руки эсэсовцев.
На аппельплаце новоприбывших опять построили.
Из последних сил Янковский старался более или менее твердо шагать в колонне, которая теперь направилась в глубь лагеря. Только не шататься и не падать, это эсэсовцы сразу заметят! У Янковского гудела голова, но он держался и вот наконец с облегчением увидел, что теперь колонну сопровождают заключенные.
На площадке между высокими каменными зданиями новичков ожидали парикмахеры, сидевшие на выставленных длинным рядом табуретках. Здесь снова началась суматоха. Новоприбывшие должны были раздеться, чтобы идти в баню. Но сделать это было не так просто, потому что какой-то шарфюрер орал и бесновался, расшвыривая заключенных, точно кур.
Когда восстановился порядок и шарфюрер исчез в бане, измотанный Янковский опустился на каменистую землю. Острая боль в руке стихла, глухо отдаваясь пульсирующими ударами. Янковский долго сидел, опустив голову, и встрепенулся, лишь когда его кто-то встряхнул. Перед ним стоял один из заключенных, сопровождавших колонну; он принадлежал к внутрилагерному надзору.
– Эй ты, не спать! – по-польски сказал он.
Янковский поднялся, пошатываясь.
Большинство уже разделись донага. Жалкие фигуры вылупились из рваных обносков и, дрожа под холодным мелким дождем, стояли перед парикмахерами. А те машинками остригали им все волосы с головы и тела.
Янковский попытался здоровой рукой снять с себя убогую одежду. Поляк-надзиратель помог ему.
Тем временем двое заключенных бродили среди толпы и ворошили снятые вещи. Иногда они брали какой-нибудь мешок или узел и осматривали его. Янковский испугался.
– Что они ищут?
Поляк-надзиратель посмотрел на тех двоих и добродушно рассмеялся.
– Это Гефель и Пиппиг с вещевого склада. – Он успокоительно махнул рукой. – Здесь у тебя ничего не стянут. Иди, брат, брейся!
Осторожно ступая босыми ногами по острому щебню, Янковский направился к парикмахерам.
У входа в баню шарфюрер снова создал толкотню, криками загоняя новичков в большой деревянный чан.
Пять-шесть человек одновременно должны были погружаться в дурно пахнущий от долгого употребления дезинфекционный раствор.
– Окунайтесь с башкой, вонючее зверье!
Толстой дубинкой он размахивал над наголо остриженными головами, которые мгновенно ныряли в жижу.
– Опять нализался! – пробормотал маленький кривоногий Пиппиг, бывший наборщик из Дрездена.
Гефель внимательно разглядывал чемодан Янковского.
– Чего только они не тащат с собой!..
Когда Пиппиг нагнулся над чемоданом, к ним, спотыкаясь, поспешил Янковский. Его лицо исказилось от страха. Он протиснулся мимо Пиппига и что-то затараторил. Но они не понимали поляка.
– Как зовут? – спросил Гефель. – Фамилия?
Это поляк, очевидно, понял.
– Янковский, Захарий, Варшава.
– Чемодан твой?
– Так, так.
– Что у тебя там?
Янковский говорил без умолку, размахивал руками и заслонял ими чемодан.
На площадку выскочил шарфюрер и с проклятиями стал загонять людей в баню. Чтобы не привлекать внимания к поляку, Гефель впихнул его обратно в очередь. Янковский попал прямо в лапы шарфюрера, тот схватил его за локоть и швырнул к двери. Янковскому пришлось влезать в чан, а затем робко теснившиеся люди протолкнули его в душевую.
Влажное тепло вскоре согрело его прозябшее тело, а под душем Янковский безвольно предался недолгой неге. Напряжение и страх растворились, и его кожа жадно впитывала тепло.
Пиппиг присел на корточки и с любопытством открыл чемодан.
Но тут же захлопнул крышку и, пораженный, взглянул на Гефеля.
Гефель нагнулся к нему.
Пиппиг снова приоткрыл чемодан, но лишь настолько, чтобы Гефель мог заглянуть внутрь.
– Сейчас же закрой! – прошипел тот и, выпрямившись, со страхом огляделся. Но шарфюрер был в бане.
– Если они пронюхают… – прошептал Пиппиг.
Гефель замахал руками.
– Убрать! Спрятать! Живо!
Пиппиг воровато покосился в сторону бани. Убедившись, что за ним не следят, он бросился с чемоданом к каменному зданию и исчез.
В бане от душа к душу ходил Леонид Богорский и приглядывался к прибывшим. На нем были только тонкие штаны и деревянные сандалии. Его атлетический торс блестел от воды. Этот русский, капо2 банной команды, когда прибывали новички, предпочитал держаться на заднем плане, в душевой. Здесь ему не мешал шарфюрер, развлекавшийся у чана.
Под струями теплой воды перепуганные люди впервые по прибытии в лагерь наслаждались покоем. Казалось, вода смывает с них всю тревогу, весь страх и пережитые ужасы. Богорский не раз видел это неизменно совершавшееся превращение. Он был молод, лет тридцати пяти. Летчик. Офицер. Но фашисты в лагере об этом не знали. Для них он был просто русский военнопленный, которого, подобно многим, отправили из прифронтового лагеря в Бухенвальд. Богорский делал все, чтобы о нем как можно меньше знали. Он был членом интернационального лагерного комитета, ИЛКа, строго засекреченной организации, о существовании которой, кроме нескольких посвященных, не знал ни один узник, а тем более – эсэсовцы.
Богорский молча прохаживался по душевой. Его улыбки было порой достаточно, чтобы придать новичкам чувство некоторой уверенности. Возле Янковского он остановился, разглядывая тощего человека, который, закрыв глаза, предавался благодетельному воздействию теплого душа.
«Где он теперь витает?» – подумал Богорский, улыбнулся и спросил на безукоризненном польском языке:
– Сколько времени вы были в пути?
Янковский, очнувшись от далеких, неясных видений, испуганно открыл глаза.
– Три недели, – ответил он и тоже улыбнулся.
Хотя Янковский по опыту знал, что молчание – лучшая защита, особенно в новой, незнакомой обстановке, он вдруг почувствовал потребность высказаться.
Бросая по сторонам беспокойные взгляды, он стал торопливым шепотом рассказывать о том, что пережил в пути. Поведал об ужасах эвакуации, о том, как эсэсовцы выгоняли их из лагеря Освенцим, натравливая собак и размахивая прикладами винтовок. Более двух недель они тащились пешком, голодные, ослабевшие, без отдыха. Ночью их среди поля сгоняли в кучу, они без сил валились на промерзшее поле, в снег и тесно прижимались друг к другу, спасаясь от лютой стужи. Многие утром уже не могли встать, чтобы идти дальше. Конвойные-эсэсовцы ходили по полю и пристреливали всех, кто еще был жив, но не мог подняться. Крестьяне потом закапывали трупы тут же в поле. А сколько падали без сил на марше! Как часто щелкали тогда затворы! И всякий раз, когда выстрелами в упор приканчивали несчастных, колонну гнали ускоренным шагом. «Бегом, свиньи! Бегом, бегом!»
Когда Янковский умолк, потому что рассказывать больше было не о чем, Богорский спросил:
– Сколько вас вышло из Освенцима?
– Три тысячи… – тихо ответил Янковский.
По лицу его промелькнула робкая улыбка. Он хотел сказать что-то еще. Его тянуло поделиться с кем-нибудь здесь, в чужом лагере, тайной своего чемодана, но в эту минуту шарфюрер резко просвистел в свисток, приказал закрыть воду и погнал в баню новую партию.
Из-за угла вещевого склада появился пожилой, лет шестидесяти, эсэсовец и направился к вновь прибывшим заключенным.
– Внимание! Идет папа Бертхольд, – зашептали охранники лагеря и постарались как можно скорее скрыться с глаз старика, тяжело ступавшего в стоптанных сапогах, сквозь которые проступали шишки на больших пальцах.
На смуглом морщинистом лице с дряблыми щеками близко друг к другу сидели два веселых глаза, с его выступающей вперед нижней губы свисала короткая табачная трубка.
Сначала он сцапал двух охранников лагеря, которые не успели скрыться от него в безопасном месте, и подал им знак рукой, чтобы шли к стене напротив прачечной. Заметив, что те неохотно выполняют приказ, он только добродушно ухмыльнулся. Затем он стал ходить среди прибывших заключенных. Подобно старьевщику выбирал он самых истощенных и приказывал охранникам нести их к стене. Туда же отправлял стариков и больных заключенных. Из бани вышел шарфюрер и, заметив Бертхольда, крикнул:
– Опять освобождаешь место?
Бертхольд ухмыльнулся и крепче зажал трубку между зубов.
Когда он собрал достаточно заключенных, охранники выстроили их в шеренгу; тех, кто не мог стоять сам, держали остальные. Бертхольд тщательно пересчитал их.
– Ровно тридцать два, – доверительно сообщил он охранникам и повел шеренгу за собой.
Охранники вынуждены были идти следом. Они не решались смотреть друг на друга, зная, для чего их сейчас используют.
Янковский, пошатываясь, вышел на дождь и холод.
Чемодан исчез!
Гефель, поджидавший поляка, быстро закрыл ему рот ладонью и прошептал:
– Молчи! Все в порядке!
Янковский понял, что должен вести себя тихо. Он уставился на немца. Тот заторопил его:
– Забирай свое барахло и проваливай!
Гефель бросил Янковскому на руки его тряпье и нетерпеливо втолкнул его в ряды тех, кого после бани отводили на вещевой склад, где им меняли грязную одежду на чистую.
Янковский засыпал немца словами. Тот не понял поляка, но почувствовал, что за этим словоизвержением скрывается глубокая тревога, и успокоительно похлопал его по спине.
– Да-да! Все хорошо! Иди, иди!
Втиснутому в строй Янковскому осталось только шагать с колонной.
– Ничего худо? Совсем нет худо?
Гефель отмахнулся:
– Ничего худого, совсем ничего худого…
В шестьдесят первом блоке Малого лагеря, в инфекционном бараке, лежали тысячи умирающих. Всех заключенных Малого лагеря с симптомами дизентерии, сыпного и брюшного тифа или другого смертельного заболевания отправляли в инфекционный барак. Старостой этого блока был поляк Йозеф Цидковский, хороший, тихий и набожный человек. Еще несколько польских заключенных помогали ему ухаживать за больными. Но они мало что могли сделать для них, кроме как ждать их смерти, чтобы затем сложить покойников позади барака. Во время вечерней переклички за трупами обычно приезжал грузовик и отвозил в крематорий.
В этот раз время вечерней переклички еще не наступило, а позади инфекционного барака уже стоял грузовик с откинутыми боковыми стенками, внутри лежало с десяток голых трупов.
Папа Бертхольд был за работой.
Из отобранных тридцати двух человек осталось менее двадцати. Голые, сгорбленные, дрожащие и испуганные, они стояли перед запертой дверью.
Бертхольд находился в отдельном кабинете. Внутри размещался небольшой стол и табурет, на столе – большая коричневая медицинская бутыль. Бертхольд в белом врачебном халате стоял перед табуретом и держал в руке шприц, перед ним лежал голый труп.
Он подошел к задней двери и постучал по ней носком сапога. Вошли два польских санитара, подняли и вынесли труп. Бертхольд закрыл за ними дверь, прошел к передней двери, так же носком сапога постучал по ней и в ожидании уселся на табурет. Снаружи охранники подали следующему раздевшемуся заключенному безмолвный знак заходить внутрь. Новичок взглянул на них вопросительно, в ответ те кивнули и натужно улыбнулись.
Папа Бертхольд тоже улыбнулся, когда ничего не подозревающий заключенный переступил порог кабинета. Жестом он приказал ему бросить вещи в кучу одежды, лежавшей в углу. Посасывая трубку и дружелюбно кивая головой, подозвал к себе раздетого заключенного.
Какими худыми были его руки и ноги…
Вздохнув, папа Бертхольд покачал головой, взял обнаженного человека за руку и утешающе похлопал по ней. Щелчком пальцев он указал на коричневую бутыль на столе и посмотрел на голого человека непроницаемым взглядом.
– Добже3, – сказал он, похлопал себя по руке, кивнул заключенному обнадеживающе и взял шприц.
Он быстро и умело сделал укол в артерию на сгибе локтя, тут же снова наполнил шприц и положил его на стол.
Заключенный продолжал стоять перед ним, а папа Бертхольд выпускал тонкие струйки дыма из своей курительной трубки.
Внезапно лицо заключенного изменилось. Его рот раскрылся от изумления и превратился в черную дыру, глаза расширились от страха, а грудь конвульсивно поднялась, как будто он хотел сделать глубокий вдох. Но тут ноги его подкосились, и, вскинув руки, он упал, как сбитая кегля. Взмахом руки он задел трубку папы Бертхольда и выбил ее изо рта.
К счастью, трубка не разбилась.
Как осчастливленный подарком мальчишка Пиппиг взбежал с чемоданом по лестнице в вещевой склад.
В этот поздний час в большой кладовой, где висели тысячи мешков с одеждой, уже не было никого из вещевой команды. Один лишь Аугуст Розе, пожилой заключенный, стоял у длинного, перегораживавшего помещение стола и разбирал какие-то бумаги.
Он удивленно взглянул на крадущегося Пиппига.
– Чего это ты тащишь?
Пиппиг приложил палец к губам.
– Где Цвайлинг?
Розе указал на кабинет гауптшарфюрера.
– Последи! – бросил Пиппиг и шмыгнул в глубину полутемного склада.
Розе посмотрел ему вслед, а затем стал наблюдать за гауптшарфюрером, который был виден через застекленную перегородку.
Подперев голову руками, Цвайлинг сидел за письменным столом перед развернутой газетой. Казалось, он спит. Однако худой, долговязый эсэсовец не спал, он тревожно размышлял о последних сводках с фронта. Цвайлинг обдумывал варианты побега. По мере приближения линии фронта становилось опасным принадлежать к эсэс. Лучше всего было переодеться в гражданское и смешаться с толпой. А если американцы прибудут внезапно, и он не успеет выбраться из лагеря? Тогда окажется в самом центре событий. И прощай, Готхольд!
«А если временно сговориться с заключенными?» – размышлял Цвайлинг.
Но это не так просто. Парни подозрительны, и кто гарантирует, что они не убьют его в конце концов? Авантюрные мысли плавали в мозгу Цвайлинга как клецки в супе.
Во время побега придется застрелить коменданта, и вдобавок Клуттига и Райнебота, ну и еще пару-тройку… Так, глядишь, американцы запишут его в антифашисты… Цвайлинг ухмыльнулся. Но очень быстро сомнения вновь одолели его. Чертова ситуация. Как выпутаться из нее без потерь?
Пиппиг вернулся и сделал знак Розе, что все в порядке. Затем он с шумом открыл дверь в канцелярию рядом с кабинетом Цвайлинга и намеренно громко крикнул:
– Мариан, пошли, будешь переводить!
Цвайлинг испуганно встрепенулся. Он увидел, как поляк, которого позвал Пиппиг, ушел вместе с ним.
– И что ты на этот раз затеял? – проворчал Розе, увидев, как Пиппиг придержал за руку поляка, который, ничего не подозревая, намеревался покинуть вещевой склад. Пиппиг шепотом огрызнулся на сварливого Розе:
– Слушай, хватит разыгрывать драму! Лучше следи за Цвайлингом.
Пиппиг подал знак Кропинскому, и оба проскользнули в глубь склада. В дальнем углу, за высокими штабелями мешков с вещами и одеждой умерших заключенных, стоял чемодан.
Пиппиг, необычайно взбудораженный, вытянул шею и еще раз прислушался, затем потер руки и ухмыльнулся, как бы говоря Кропинскому: «Ну-ка, взгляни, что я принес!..» Он щелкнул замками и поднял крышку чемодана. С залихватским видом засунув руки в карманы, он наслаждался произведенным эффектом.
В чемодане, свернувшись в комок и прижав ручки к лицу, лежал завернутый в тряпки ребенок. Мальчик лет трех, не больше.
Кропинский присел на корточки и уставился на него. Малютка лежал неподвижно. Пиппиг нежно погладил маленькое тельце.
– Ах ты, котеночек… Вот ведь, приблудился к нам…
Он хотел повернуть ребенка за плечо, но тот уперся. Наконец Кропинский нашел нужные слова:
– Бедная крошка! – сказал он по-польски. – Откуда ты?
Услышав польскую речь, ребенок вытянул головку, словно насекомое – спрятанные щупальца. Это первое слабое проявление жизни так потрясло двух узников, что они как зачарованные не могли оторвать глаз от малютки. Его худенькое личико было серьезно, как у зрелого человека, и глаза блестели совсем не по-детски. Ребенок смотрел на незнакомых людей в немом ожидании. А те едва смели дышать.
Одолеваемый любопытством, Розе тихо прокрался в угол и внезапно появился перед Кропинским и Пиппигом.
– Это еще что такое?
Пиппиг в испуге огляделся и зашипел на изумленного Розе:
– Ты что, спятил? Зачем пришел? Ступай обратно! Хочешь натравить на нас Цвайлинга?
Розе махнул рукой.
– Он дрыхнет. – И, с любопытством склонившись над ребенком, спросил:
– И что вы собираетесь с ним делать?
Пиппиг оттеснил Розе от чемодана и пригрозил:
– Скажешь хоть слово…
Розе пробурчал:
– Недурную игрушку навязал ты себе на шею.
И с обеспокоенной улыбкой покинул опасное место.
– Это же надо, чтобы именно он нас застукал, – раздосадованно прошептал Пиппиг, когда Розе скрылся из виду.
У длинного стола-прилавка стояло несколько новоприбывших, они сдавали всякую мелочь – кто обручальное кольцо, кто связку ключей.
Работники команды складывали это в бумажные пакеты, а Гефель в качестве капо надзирал за их операциями.
Рядом с ним стоял Цвайлинг и тоже следил. Вечно полуоткрытый рот сообщал его неподвижному лицу выражение какой-то опустошенности. Груда хлама не интересовала его, и он отошел от стола. Гефель проводил взглядом долговязого эсэсовца: небрежная осанка придавала его тощей фигуре сходство с кривым гвоздем. Цвайлинг большими шагами возвратился в кабинет.
Новичков скоро отпустили, и Гефель наконец получил возможность заняться ребенком. Розе, вернувшийся к столу, задержал капо.
– Если ты ищешь Пиппига…
Он загадочно показал на кладовую.
– Знаю, – отрезал Гефель. – Об этом молчок, понял? Розе изобразил возмущение.
– Что я, доносчик?
Он обиженно посмотрел вслед Гефелю. Работники команды насторожились и стали его расспрашивать, но Розе не отвечал. Таинственно улыбаясь, он ушел в канцелярию.
Ребенок сидел в чемодане, а Кропинский, стоя перед ним на коленях, пытался завязать с ним беседу.
– Как тебя зовут? Скажи мне. Где папа? Где мама? Jak się nazywasz? Musisz mi to powiedzieą. Gdzie jest twói ojciec? Gdzie jest twoja mama?
Подошел Гефель.
– Что же с ним делать? – растерянно зашептал Пиппиг. – Если он им попадется, убьют.
Гефель опустился на колени и в раздумье посмотрел в лицо малютке.
– Nie mówi. Он не говорит, – в отчаянии объяснил Кропинский.
Появление еще одного незнакомого человека, по-видимому, напугало ребенка. Он теребил свою рваную курточку, лицо же оставалось странно застывшим. Похоже было, что он и плакать не умеет.
Гефель взял беспокойную ручку малыша.
– Кто же ты, маленький?
Ребенок пошевелил губами и проглотил слюну.
– Он голоден! – Пиппиг просиял от своей догадливости. – Я что-нибудь принесу.
Гефель поднялся и глубоко вздохнул. Все трое беспомощно переглянулись. Гефель сдвинул шапку на затылок.
– Да-да… конечно… – пробормотал он.
Пиппиг усмотрел в этом знак согласия и хотел уже идти. Однако бормотание Гефеля было всего лишь попыткой привести в порядок блуждающие мысли. Что будет с ребенком? Куда его деть? Пока что придется спрятать его здесь. Гефель остановил Пиппига и задумался.
– Приготовь ребенку постель, – сказал он наконец Кропинскому. – Возьми старые шинели, положи в углу и…
Он запнулся. Пиппиг вопросительно посмотрел на него. На лице Гефеля отразилась тревога.
– А что, если малыш закричит? – Гефель прижал руку ко лбу. – Когда маленькие дети пугаются, они кричат… Что же делать, черт возьми? – Он уставился на ребенка и долго смотрел на него. – А может… может, он и кричать не умеет?.. – Гефель взял малыша за плечи и слегка потряс. – Тебе нельзя кричать, слышишь? Не то придет эсэс.
Внезапно лицо ребенка перекосилось от ужаса. Он вырвался, забрался опять в чемодан, съежился в комок и закрыл ручками лицо.