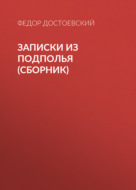Kitobni o'qish: «Не стреляйте в белых лебедей (сборник)»
© Б.Л. Васильев, наследники. 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Иванов катер
Вечерами в маленькой поселковой больнице тихо. Бесшумно скользнет по коридорчику сестра, разнося градусники. Прокряхтит сухонькая старушка, да скрипнет дверь за мотористом с «Быстрого», выходящим покурить в холодные сени.
А сегодня тишина нарушилась тяжелыми шагами врача, беготней сестер, тревожным скрипом носилок.
Моторист выскочил в коридор:
– Никифорова с Иванова катера в операционку повезли.
– Утоп!.. – ахнула бабка.
– Нет, бабка, за борт свалился…
За разговорами не заметили, как по коридору мимо палат прошли двое; один прихрамывал, крепко налегая на палку.
Он был немолод. От хромоты в левой ноге чуть сутулился и при ходьбе привычно выносил вперед правое плечо. Морщины избороздили до черноты загорелое лицо, и особенно много их набежало возле глаз, словно человек этот всю жизнь смотрел против ветра.
Он шел, стараясь без стука ставить палку, а впереди беззвучно летела девчонка-сестра, от бьющей через край энергии выворачивая по-балетному носки матерчатых тапочек. У операционной остановилась:
– Посидите.
Боком скользнула в дверь, а он осторожно присел на краешек стула, поставив между ног палку.
Как все здоровые люди, он был чуть напуган больничной тишиной: стеснялся сесть поудобнее, скрипнуть стулом, поправить сползавший с плеча тесный халат. Стеснялся своего здоровья, стоптанных башмаков из грубой кожи и тяжелых рук, сплошь покрытых ссадинами и порезами.
– Иван Трофимыч?.. – Моторист опять вылез в коридор.
– Петр? – шепотом удивился Иван. – Ты чего тут?
– Аппендикс вырезали, – не без гордости сообщил моторист, садясь рядом. – Флегмонозный.
– С Федором-то беда какая… – Иван вздохнул.
– А что случилось?
– Запань у Семенова лога утром прорвало. Не знаю, откуда вода пришла, а только рвануло троса, и понесло лес в Волгу. А тут – ветер, волна. Треск стоит – голоса не слышно. Ну, все кто куда: с лесом не пошутишь.
– Ай-ай-ай!.. – опечалился моторист. – И много ушло?
– Да нет, немного. Аккурат мы воз навстречу вели, к «Немде» цеплять. Пиловочник сплошь, двести сорок метров. Ну, увидал я: лес в лоб идет…
– Буксир топором да к берегу! – сказал моторист. – Затрет бревнами – «мама» сказать не поспеешь.
Иван улыбнулся.
– А я по-другому рассудил. Плот только сплочен, троса добрые, а ширина в этом месте невелика: развернул, корму в Старую Мельницу сдал – там камни, уязвил прочно. А катерок свой за мысок спрятал. Знаешь, где малинники?
– Ну?
– Ну и сдержал лес, не пустил в Волгу-то, на простор.
– Ишь, сообразил! – завистливо вздохнул моторист. – Премия, поди, будет, благодарность…
– Благодарность, может, и будет, а вот помощника уж не будет, – вздохнул Иван. – Как ударило нас первой порцией – троса запели, а Федора на бревна сбросило. Выловили, а рука на жилах висит.
– Оклемается, – уверенно сказал моторист. – Мужик здоровый. Да и доктор молодец: меня пластал – любо-дорого.
Стемнело, когда из операционной вышел доктор. Увидев его, моторист трусливо юркнул в палату. Скрипнув стулом, Иван встал навстречу, но доктор опустился рядом, и Иван, постояв немного, тоже присел. Он стеснялся начинать разговор, а доктор молчал, медленно разминая в пальцах папиросу.
– Перелом позвоночника, – сказал он, прикурив и глубоко затянувшись. – Скверное дело, капитан.
– Долго пролежит? – тихо спросил Иван, плохо представляя, что это значит.
– Всю жизнь. – Врач курил жадно, изредка разгоняя рукой сизые клубы дыма. – Всю жизнь, капитан, какая осталась…
– Трое детей… – невольно вырвалось у Ивана.
– Что?
– Трое детей, – повторил Иван и опять встал. – Старшему – двенадцать, не больше…
Доктор молчал. Вспышки папиросы освещали его осунувшееся лицо и капли пота на лбу.
– Рыбки можно ему?
– Рыбки? – переспросил врач. – Фруктов хорошо бы. Витамины, понимаешь?
И опять замолчал. Иван постоял немного и, тихо попрощавшись, похромал к раздевалке.
В раздевалке он сдал халат и в обмен получил потрепанный рабочий пиджак. Пожилая гардеробщица полюбопытствовала насчет Никифорова, и он сказал ей, что дело Федора плохо и что у него трое детей. Гардеробщица, вздыхая и сокрушаясь, отперла уже по-ночному заложенные двери, и он вышел на темную окраинную улицу поселка.
Он привычно свернул вниз, к пристаням, но, пройдя немного, остановился. Посмотрел на часы и, быстро перекидывая палку, враскачку зашагал по узкой крутой тропинке от угла и громко постучал палкой по запертой калитке.
Сквозь надрывный собачий лай послышался сиплый со сна голос:
– Кого нелегкая?
– Это я, Бурлаков. Открой, Степаныч, дело к тебе.
– На место, дармоед!.. – В щели чуть приоткрытой калитки показалась осанистая фигура. – Что за дело?
– Яблоки у тебя есть, Степаныч?
– Яблоки?.. – Хозяин неожиданно тоненько захохотал. – Какие тебе яблоки в июле, старый пень?
– Понимаешь, Никифоров в больнице. Доктор фрукты велел…
– В больнице?.. – Хозяин задумался. – В больнице – это другое дело. – Он распахнул калитку. – Шагай, Трофимыч. Осторожно, приступочка тут.
Вслед за Степанычем Иван поднялся на крыльцо и прошел в темные сени. Хозяин щелкнул выключателем; голая лампочка осветила просторное помещение, заваленное плетеными корзинами, мешками и ящиками.
– Фрукт – великое дело. – Степаныч выволок из угла дырявый мешок, развернул: на дне лежали битые зеленые яблоки. – Первый урожай. Сам бы ел, но ради такого дела…
– Кислятина, поди.
– Ты что? Папировка, первый сорт. Гляди-ко… – Хозяин взял яблоко и начал с хрустом жевать его, причмокивая от удовольствия. – Восемь килограмм, хоть на безмене прикинь.
– Почем же?
– Ну, как для больного – по рублю.
– Круто берешь, Степаныч…
– Первые ведь, от себя отрываю.
Иван молча отсчитал деньги, взвалил на плечо мешок. Хозяин вел его к калитке, по инерции расхваливая уже проданный товар:
– Витаминов в этих яблоках – вагон! У меня вон детсад закупает, прокурор для больной жены. Сила яблоки: сорт особый… Счастливо, Трофимыч! Заходи, если что. Тебе – в первую очередь…
По крутой тропинке Иван спустился к пристаням и сразу увидел плакаты с броской надписью: «Герои нашего затона». Героев узнать было бы невозможно, если бы художник не подписал каждый портрет: «Капитан Иван Бурлаков», «Помощник капитана Федор Никифоров», «Матрос Елена Лапушкина». Все трое сурово глядели вдаль…
Катера стояли за полузатопленной баржей. Они были одинакового размера, формы, убранства, одинаково освещались сигнальными фонарями, и только на самом дальнем совсем по-домашнему сушилось на веревке белье.
Иван спрыгнул на катер, громыхнув по железной палубе костыльком. На шум из рубки выглянула худенькая молодая женщина в выгоревшем ситцевом платье; голова ее была повязана полотенцем.
– Вы, Иван Трофимыч?
– Ты чего это в полотенце?
– Голову мыла. Как Федор?
Он присел, вытянув натруженную ногу, закурил и рассказал, что говорил доктор и как он заходил к Степанычу за яблоками.
– Плохо, Еленка.
– Шесть душ кормил, – вздохнула она. – Шесть душ, сам седьмой…
– Сам седьмой, – повторил Иван, упорно разглядывая огонек папиросы.
Они опять замолчали. Еленка стояла, по-бабьи пригорюнившись, опустив худенькие плечи, чуть прикрытые легким платьем, а он неторопливо курил, по привычке держа папиросу огнем в ладонь.
– Кого-то вместо Федора пришлют, – не то спросила, не то сказала она.
Иван бросил папиросу за борт, поднялся:
– Пойдем в кубрик. Застынешь.
По железному трапу они спустились в тесный низкий кубрик. Четыре дивана окружали небольшой, прикрепленный к полу стол; три из них были застланы. В углу возле трапа размещалась вделанная в железный шкаф печурка; остывая, она изредка потрескивала. В противоположном углу был шкаф для одежды и еще один маленький подвесной шкафчик, в котором хранились судовые документы, ведомости, бинокль и прочее ценное имущество.
От недавно истопленной печи в кубрике было душно. Иван снял пиджак и палкой открыл потолочный люк. Свежий воздух ринулся вниз, а Иван с беспокойством оглянулся на Еленку:
– Не надует?
– Нет. – Она ловко поворачивалась в тесном проеме между печуркой, кухонным столиком и трапом, готовя ужин. – Я уж и постирать успела, и помыться, и обсохнуть, пока вы ходили.
Большими ломтями она нарезала черный хлеб, подала соль, пучок зеленого луку, ложку и большую эмалированную миску, доверху налитую густой ухой. Он взял было ложку, но посмотрел на Еленку и отложил:
– А ты что же? Или не голодна?
– Не хочу, – сказала она. – Вы кушайте. Не знаю, горяча ли уха.
– В самый раз, – сказал он и начал есть, а она села напротив и подперла подбородок рукой.
Они вообще говорили мало, а за едой не говорили никогда, потому что еда не была для них развлечением. Еленка просто молча глядела, как неторопливо и старательно он ест, как аккуратно подставляет под ложку ломоть хлеба, чтобы уха не капала на стол и чтобы ей было меньше хлопот с уборкой. Она любила смотреть на него, когда он ел: в ней появлялось уютное чувство хозяйки, заботливо кормящей главу семьи после тяжелого трудового дня, и тогда тесный кубрик казался просторным домом, бревенчатые стены которого веками источают смолистый дух…
Иван вытащил из миски большую разваренную рыбу и стал есть ее, выбирая кости.
– Хорошего Федор подъязка поймал… – начал он и, поняв, что ест сейчас, пожалуй, последний улов, который выпал на долю его помощника, сказал: – Яблоки Федору отнесешь в больницу. Я утром к домашним его зайду, а оттуда – в контору: надо нового помощника искать.
Потом он вылез на палубу покурить, а Еленка убрала со стола и вымыла яблоки, заботливо вытерев каждое. Ей хотелось надкусить одно, почувствовать во рту кислый до оскомины сок, но она только понюхала их и сложила в сшитый из старой наволочки мешок.
Покончив с хозяйством, она разделась и легла. За тонким бортом чуть слышно плескалась вода, а в кубрике было так тепло и привычно, что она почти сразу же уснула и не слышала, как Иван с грохотом запирал на ночь тяжелую дверь рубки.
Иван легко засыпал в любом месте – будь то узкий диван кубрика или колючий лапник фронтовых привалов. Спал без сновидений и всегда на правом боку, но сегодня никак не мог уснуть.
Глупо и обидно, что человек, как бы силен он ни был, не может предотвратить беду. Стоять бы Федору на шаг правее борта сегодняшним утром – и спокойно храпел бы он сейчас на соседнем диванчике. Всего на шаг правее. На полшага…
Он тяжело заворочался, но, боясь разбудить Еленку, сразу притих: молодые любят спать, им это полезно.
Еленка… Две женщины в его жизни, но первую не стоит вспоминать. Первая родила ему Сашка, а любви не было, и вышло ни то ни се, ничего не вышло, если говорить честно. И правильно, что отдал он тогда жене дом, а себе взял новый костюм да ордена, которые надевал три раза в год: на праздники и в День Победы. Очень правильно, хоть и бобылем оказался уже в возрасте, когда у других – и дети, и радость, и место за столом, которого никто не займет. А она вроде бы счастлива теперь, и то ладно…
Расчесал ты, Иван, старую болячку: зуд по всей душе пошел. Покурить надо. Покурить, проветриться – и забыть.
Иван спустил ноги с чуть вздохнувшего дивана. Ощупью нашел штаны, накинул на плечи пиджак и, растопырив руки, пошел к трапу. Нащупал поручни и полез в рубку, с силой подтягивая тело. В рубке разыскал старые галоши (Еленка в них мыла палубу, когда было жарко и железо нагревалось так, что босиком и не ступишь), не смог в них влезть и, громыхнув-таки дверью, вышел на палубу.
Небо было в тучах, звезд не видно, а луна еще не народилась. Иван присел на крышу моторного отделения и закурил.
Вода чуть слышно плескалась о борт. Она плескалась всегда – днем и ночью, в штиль и шторм, но он слышал этот плеск только по ночам, если случалось не спать. А в остальное время просто исключал его из сознания, как городской житель исключает грохот трамваев. А ночью любил слушать…
Замерзнув до озноба, он бросил окурок, запер дверь рубки и осторожно спустился в черноту кубрика. Нырнул под одеяло, и пружины дружно вздохнули под его тяжестью. Натянул одеяло до подбородка и закрыл глаза.
Он открыл их, вдруг почувствовав, что Еленка стоит рядом.
– Проснулась?
– Я давно проснулась, – сказала она. – Я слышала, как вы ворочались и вздыхали.
– Надо спать, – сказал он, невольно притягивая ее к себе. – Надо спать, а то что мы завтра за работники будем…
Он почувствовал, как губы касаются его щеки: она никогда не целовала его, а только касалась губами, смешно вытягивая их. Он повернулся на бок, и она быстро юркнула под одеяло.
– Зачем вы по железу босиком ходите?..
Они любили друг друга молча. Ни разу ни одного ласкового слова не расслышал Иван и тоже молчал, про себя выдумывая ей самые нежные прозвища…
Было еще совсем темно, когда Еленка шевельнулась.
– Что так рано? – спросил он.
– Лифчик у меня сохнет, – сказала она, и он понял, что она улыбается. – Рассветет – мужики смеяться начнут: что, мол, за сигнал поднят на Ивановом катере?
Она чуть коснулась рукой его лба, и он с сожалением отпустил ее. Он всегда отпускал ее с сожалением: слишком уж коротки были летние ночи.
Утром, пока Еленка готовила завтрак, он достал из носового трюма пять больших лещей: он сам наловил их, сам солил, сам коптил на можжевельнике так, что кожа их даже в сумерки светилась теплым золотистым светом.
– Никифоровой, – сказал он, поймав удивленный взгляд Еленки. – Скажу, что Федорова доля осталась.
– А Сашку?
Иван помолчал, нахмурился. Буркнул под нос:
– Обойдется Сашок без рыбки.
Они позавтракали вчерашней ухой, напились чаю и сошли на берег. Еленка свернула наверх, к больнице, а Иван, зажав под мышкой пакет с лещами, похромал вдоль причалов, здороваясь с каждым встречным.
Дом Никифоровых стоял с края берегового порядка. Федор поставил его прошлым летом, получив за два года стажировочные и взяв ссуду в конторе. Иван все время думал об этой ссуде, но надеялся, что теперь начальство либо скостит долг Никифорову, либо, на худой конец, растянет его на много лет…
Он хорошо знал этот дом: Федор часто приглашал капитана то на дочкины именины, то на рождение сына. Иван покупал тогда бутылку водки, а Еленка надевала синее шерстяное платье. Хорошие это были вечера…
Он толкнул тяжелую дверь и вошел в дом. За дощатой перегородкой, отделявшей жилую комнату от маленькой прихожей, слышался громкий обиженный плач.
– Паша!.. – окликнул Иван.
Плач стал сильнее, но ответа не последовало.
– Есть кто живой? – спросил Иван, все еще не решаясь без приглашения идти в комнату.
– Я живой, – недовольно ответил мальчишеский голос, и на русской печи задвигалось что-то похожее на худой, обтянутый штанами зад. Зад этот, вильнув, попятился к приступочке, и Иван наконец разглядел Вовку – старшего отпрыска Никифорова рода.
– Здравствуй, дядя Иван, – степенно сказал Вовка, подавая левую руку, так как в правой он держал шерстяные, домашней вязки женские чулки.
– Чего Оленька кричит?
– Развивается. – Вовка сел на пол и стал надевать чулки на худые исцарапанные ноги. – Может, артисткой будет: орет больно здорово.
Чулки были велики, но Вовка не обращал на это внимания, деловито прикручивая их к тощим икрам специально припасенными веревочками.
Поняв, что толку от Вовки не добьешься, Иван аккуратно вытер ноги о половичок и прошел в комнату. В углу на неприбранной кровати кричал ребенок, приваленный подушкой. Увидев Ивана, ребенок сразу перестал орать и улыбнулся, показав два крохотных зуба.
– Ну что, Ольга, орешь? – спросил Иван, снимая с нее подушку. – Мокрая небось?
Он развернул девочку, переменил простынку и вновь уложил Ольгу на место. Девочка пускала пузыри и улыбалась, крепко держа Ивана за палец.
– Она кормлена? – спросил Иван.
– Кормлена, – сказал Вовка. – Бабка кашу варила.
Остатки каши были разбросаны по столу. Там же стоял чугунок, грязные тарелки и хлеб.
– А где бабка?
– В церкви. Пошли они с дедом в церковь и Надьку с собой увели.
– А мать?
– В больнице. Еще не рассвело – побежала. Все равно к папке не пустят, чего бежать?
Вовка вошел в комнату. Кроме бабкиных шерстяных чулок на нем были надеты тяжелые башмаки.
– Ты чего это в чулки вырядился?
– Это теперь не чулки, – сказал Вовка, любуясь собой в зеркало, подвешенное на стене. – Это теперь гетры, дядя Иван. Гетры – футбольная форма.
Иван посмотрел на него, сказал серьезно:
– Плохо с отцом-то, Вова.
– А чего плохо-то? Чай, не утонул: отлежится.
– Эх, глупый!.. – Иван с сожалением и очень стесняясь высвободил палец из детского кулачка. – Рыбу я там принес. Сунь ее в подпол.
Вовка нехотя пошел исполнять поручение. Пока он, сопя и вздыхая, громыхал тяжелым люком, Иван собрал грязные тарелки, смахнул со стола, прикрыл хлеб и чугунок с кашей кухонным полотенцем.
– Ты бабки дождись или матери, футболист, – сказал он, когда Вовка вернулся. – Ребенка одного не оставляй.
– А что ей сделается? – недовольно спросил Вовка. – Я ее подушкой привалю, чтобы не ползала и не убилась.
Из разговора было ясно, что Вовка уже все продумал и спорить с ним бесполезно. Поэтому Иван начал издалека:
– Ты вроде рыбачить со мной собирался? – Вовка мгновенно повернулся к нему.
– Когда пойдем?
– Когда?.. – Иван испытующе посмотрел на него. – Три условия тебе ставлю: посуду помыть, воды в бачок натаскать и Ольгу не оставлять. Выполнишь?
– Выполню, – вздохнул Вовка.
– Завтра в семь приходи к катеру. Знаешь, где стоим?
– Знаю! А чего брать? У меня и на верхоплавку есть, и закидушка…
– Снасть будет полная. Пальтишко захвати.
– Так тепло. Лето.
– Леща пойдем брать, Вова. А лещ, он ночью ловится, в тишине. – Иван положил руку на нечесаную, добела выгоревшую голову мальчишки и подумал, что здорово решил насчет рыбалки: значит, часть улова можно будет свободно отдать Вовке как долю в общем труде.
– Все сделаю, дядя Иван, – говорил Вовка, провожая его к дверям. – Посуду помыть – раз, воды натаскать – два, Ольгу не оставлять…
– Да, вот еще, – Иван остановился. – Матери скажешь, чтобы сегодня же в отдел кадров с паспортом пришла. Со своим паспортом, не забудешь?..
Иван шел назад легко и быстро. Все же удачно начался день: и с Вовкой он справился, и насчет рыбалки придумал, и вовремя, очень даже вовремя вспомнил, что Паша Никифорова нигде не работает. И только досадное обстоятельство портило настроение: как же это можно идти в дом, где малые дети, и не захватить с собой кулек карамелек?..
На крыльце приземистого одноэтажного дома, где размещался отдел кадров, сидел рослый парень, сбив на затылок помятую форменную фуражку с треснувшим серебряным «крабом». У ног его стоял потрепанный чемоданчик, к ручке которого был лямками привязан плотно набитый солдатский вещмешок. Темные масляные пятна окрасили мешок в грязно-черный цвет: видно, хозяин швырял его где попало. Флотские брюки парня, зауженные согласно столичной моде, тоже были в пятнах и потеках, зато белоснежная рубашка сияла ослепительной чистотой; в вырезе ее виднелись неправдоподобно синие полосы новенькой тельняшки.
– Откуда будешь, парень? – спросил Иван.
– Снизу, – равнодушно ответил парень.
– Горьковский?
– Почти что угадал.
– А чего здесь сидишь?
– Начальство документы изучает…
Он вдруг цепко, искоса глянул на Ивана.
– Говорят, у вас плавсостав укомплектован под завязку. Верно?
– Кто его знает, – уклончиво сказал Иван. – Вроде бы нет…
– Значит, в лапу ждет! – Парень выругался. – Либо на пол-литра рассчитывает.
Начальник отдела кадров получил на фронте штыком в живот и с той поры ел одну манную кашу с молоком.
– С дизелями знаком? – спросил Иван.
– Судовой механик… А что?
– Посиди пока. Узнаю, – сказал Иван и мимо парня прохромал в отдел кадров.
Начальник отдела кадров был худ и черен, как ранний грач. Иван давно знал его: еще до войны вместе ходили в клуб водников на танцы.
– Здорово, герой затона. – Улыбка у начальника пряталась в глубоких морщинках, и о существовании ее догадывались немногие. – Сразу могу обрадовать: начальство премию вам отгрохало.
Иван промолчал.
– И еще одно, уже по секрету. Сегодня местком заседать будет насчет твоего катера. Полагаю, решат присвоить имя, Иван Трофимыч. Большая честь тебе оказывается.
Раньше не было такого порядка: мелкие суда шли под номерами, крупным наименования присваивали либо на судоверфи, либо приказом по пароходству. А как выбрали в бюро Володьку Пронина, так все пошло иначе. Сумел Володька начальству внушить, что имя для судна почетней благодарностей, и присвоил месткому право решать, кто этого почета достоин.
– Только пока – ни гугу, – сказал начальник. – Будет приказ, будет и оркестр. – И опять собрал возле рта морщины, запихал в них улыбку и спросил: – Рад?
– Рад, – вздохнул Иван и закурил, стряхивая пепел в ладонь, потому что начальник курящих не жаловал и пепельниц не держал. – Рад-то рад, Николай Николаич, только кто дает, тот и отбирает.
– А ты оправдай.
– Так ведь не посуху ходим, а по воде. – Иван улыбнулся, потом помолчал, показывая этим, что шутки кончены, и сказал серьезно: – Ты вот что, Николай Николаич, ты жену Федора Никифорова оформи матросом ко мне на катер.
Начальник с удивлением посмотрел на Ивана.
– Трое детей, Николаич. На Федорову пенсию не потянет.
– Жалостливый ты больно мужик, Иван Трофимыч, – с неудовольствием сказал начальник.
– Надо, Николай Николаич. Был я у них: надо.
Начальник только вздохнул.
– Ладно. Пришли ее сегодня с паспортом.
– Сама придет: я Вовке, сыну ее, наказал.
Начальник пометил что-то в календаре, усмехнулся:
– В начале навигации ты обязательство брал сократить экипаж с пяти до трех человек. Было такое?
– Было, – сказал Иван. – При толковом помощнике вполне можно обойтись без моториста и второго матроса.
– А теперь сам второго матроса просишь. Некрасиво получается.
– Утремся, – сказал Иван. – Напишу заявление, что погорячился и без второго матроса обойтись не могу. Ну, ругнут меня на партсобрании, а Паша Никифорова каждый месяц полсотни получать будет. Правильно или неправильно?
– Правильно вообще-то, – согласился начальник. – Продавай свою рабочую гордость за полста рублей.
– Ничего, – улыбнулся Иван. – Не такой уж я гордый.
– Ну, договорились, – сказал начальник. – Второй вопрос: кого вместо Федора?
– Вместо Федора?.. – Иван встал, подошел к окну, выбросил пепел с ладони. – А что за парень у тебя на крыльце сидит?
– Не советую, Трофимыч, – поморщился начальник. – Ой не советую.
– Почему?
Начальник придвинул лежащие с краю стола документы, раскрыл трудовую книжку.
– «Прасолов Сергей Павлович, – читал он, изредка поглядывая на Ивана. – Специальность – судовой механик, холост…» Подходит?
– По всем статьям.
– Погоди. – Начальник перевернул несколько страниц и с выражением прочел: – «Уволен из Саратовского грузового порта десятого июня сего года по собственному желанию…» – Он отложил книжку и посмотрел на Ивана.
– Ну? – спросил Иван, ничего не поняв.
– Парень в середине навигации по собственному желанию ушел. Спросил я его, что же это за желание такое: бросить Саратовский порт и к нам в глухомань приехать? Смеется: у вас, говорит, невесты на всю Волгу славятся.
– Может, человек веселый.
– Веселый?.. Это ведь пишется только, что по собственному желанию. Не первый год кадрами заведую: знаю. А что там у него на самом деле было – поди вон к тетке Авдотье да погадай.
– Значит, неправду в документах пишут?
Начальник досадливо поморщился:
– Есть, Иван Трофимыч, правда, а есть – истина. Против истины мы ни на волос не согрешим: дело это святое… – Он вздохнул. – Сколько у тебя матросов вместе с Никифоровой будет?
– Два.
– Правильно: зарплата – двоим, а палубу драить – одна Елена. Так?
– Ну?
– Так где же она, правда-матушка?
– А-а… – Иван улыбнулся. – Подкусил!
– Вот так и в нашем деле, – со вздохом сказал начальник.
Он замолчал и снова стал придирчиво изучать трудовую книжку судового механика Прасолова.
– А вдруг – не так? – сказал Иван и встал. – Вдруг ты ошибаешься, Николай Николаич? Вдруг он и вправду по собственному желанию уволился и к нам приехал с дорогой душой, а мы…
– Сомневаюсь, – сказал начальник.
– А я не могу человека загодя плохим считать, – с непривычной горячностью сказал Иван.
– Значит, хочешь брать?
– Беру. Опыт у него есть?
– Достаточный, – сказал начальник. – Он вон и по Енисею навигацию проплавать успел… Ладно, Трофимыч, гуляй себе на катер, прибирайся, а парня я пришлю. Только помни: я тебя по дружбе предупредил, и чтобы потом…
– Ничего потом не будет, – сказал Иван и, пожав сухую, всегда горячую руку начальника, вышел из отдела кадров.
Парень сидел на старом месте, только возле ног прибавилось окурков. Он встретил Ивана спокойным взглядом серых холодных глаз и чуть заметно усмехнулся.
– Катер возле затопленной баржи причален, – сказал ему Иван. – Как оформишься, приходи не мешкая. Катер номер семнадцать, запомни.
Парень вскочил, хотел что-то сказать, но из окна крикнул начальник:
– Прасолов!.. Ну-ка, зайди!..
Прасолов подхватил вещи, шагнул к крыльцу. В дверях остановился.
– Спасибо, капитан! С меня – пол-литра!..
С яблоками Еленка обернулась быстро: дежурила знакомая девчонка и без разговоров взяла мешочек. Впрочем, Никифоров считался тяжелым, лежал в отдельной палате, и доктор, вопреки обыкновению, пустил к нему жену еще до завтрака. Все эти новости сестра выпалила Еленке и ушла.
От больницы Еленка спустилась к рынку, купила мяса и, завернув его в припасенную газету, пошла на катер.
Поставив вариться мясо, Еленка переоделась и принялась за уборку. Открыв люк в кубрике, выколотила диваны, вытащила наверх одеяла и подушки. Потом достала швабру и, надев на босу ногу галоши, принялась с ожесточением скрести маленькое суденышко.
– Чего расстаралась, соседка? – спросила с ближайшего катера пожилая женщина-матрос. – До Ноябрьских далеко…
– Да я так. – Еленка почему-то смутилась и отвечала, не поднимая лица. – Все равно пока без работы стоим.
– А Никифоров как?
– Не видала я его, родных только пускают. Девчонка там знакомая работает, говорит, плохо, мол.
Вопрос любопытной соседки – нет, не о Никифорове, другой – застал Еленку врасплох. Еще вчера она и не думала об уборке, но сегодня на борт должен был вступить кто-то посторонний, и ей хотелось по-хозяйски блеснуть чистотой, порядком и сытным обедом.
Где-то в глубине души она хотела, чтобы неизвестный оказался молодым и веселым, но думала об этом робко, словно тайком от самой себя, потому что и для нее и для Ивана куда было бы проще, если бы он был местным, имел на берегу дом, семью и все связанные с этим интересы. Такой человек не мог нарушить установившийся на катере порядок, и жизнь не требовала бы ни перемен, ни ухищрений. Все текло бы своим чередом – даже ее редкие ночные свидания с Иваном…
Размышляя об этом, она выдраила до блеска старый катерок и спустилась вниз, где на крохотной печурке кипел обед. Она успела только приподнять крышку, как на палубе гулко грохнуло, катерок качнуло и незнакомый голос громко спросил:
– Разрешите войти?
Она поспешно накрыла кастрюлю, вытерла руки и, старательно оправив платье, с опозданием крикнула:
– А кто там?
И полезла наверх, заранее смущаясь, потому что голос был насмешливым и молодым. Еще из рубки – сквозь стекло – она увидела рослого парня с чемоданом и вещмешком.
– Здравствуйте, – очень тихо сказала она.
– Привет, хозяйка. – Парень в упор разглядывал ее серыми глазами. – Будем знакомы: Прасолов Сергей Павлович.
– Лапушкина, – сказала она и, стесняясь, подала руку ковшиком, на мгновение. Потом спросила: – К нам, значит?
– К вам. – Он поймал ее взгляд, улыбнулся вдруг, как выстрелил: – Как вахта идет, товарищ Лапушкина?
От прямого, вызывающего взгляда, от вопроса, сбивающего на игривый, неравноправный тон, Еленка совсем сникла и, пробормотав что-то, торопливо спустилась в кубрик. Здесь она опять принялась за обед, все время с непонятной тревогой прислушиваясь к шагам над головой. Зная, каким звоном отзывается каждый шов палубы, она безошибочно определяла, что он делает там, наверху: тонко взвизгнула плохо смазанная петля носового люка, скрипнула дверь рубки, грохнул пол машинного отделения.
Парень грохотал по-хозяйски, не стесняясь, не спрашивая, что где лежит. Тяжело взревел двигатель, катерок мелко затрясся, но Сергей не выключал ход, а придирчиво гонял старенький мотор на всех оборотах, выслушивая каждый цилиндр. Он больше не беспокоил ее и не выходил из машинного отделения. Заглушив движок, звякал ключами, изредка что-то насвистывая. Даже когда пришел Иван, не вылез навстречу, а гулко крикнул снизу:
– Капитан, спуститесь-ка!..
Иван ушел к нему, и они долго не появлялись. Еленка сготовила обед, накрыла на стол, а их все не было, только голоса неразборчиво гукали в звонком трюме да дважды взревел запущенный двигатель.
Они спустились вместе – умытые, с розовыми, натертыми полотенцем лицами.
– Ну, я же сразу сказал, что в пятом цилиндре палец люфтует! – почему-то очень радостно говорил Сергей. – И форсуночки проверить не грех: подача паршиво отрегулирована, для дяди…
– Обедать, – сказала она, то снимая, то снова накрывая кастрюлю крышкой. – Стынет.
– С мясом! – улыбнулся Иван. – Ну, Еленка, расстаралась ты сегодня.
– Что же я! – крикнул Сергей и кинулся на палубу.
Он тут же вернулся с мешком и чемоданом.
– Для первого знакомства. – И со стуком поставил на стол бутылку водки.
– Это ты, парень, зря, – сказал Иван. – У нас закон: только по праздникам.
– Я, капитан, законы соблюдаю. – Сергей зубами надорвал пробку. – Ты что, матрос, два стакана ставишь?
– Выпей с нами, Еленка, – сказал Иван. – За знакомство.
Они выпили, и Сергей с Иваном завели длинный разговор о двигателе, который следовало бы перебрать, о работе, которую невозможно спланировать, о простоях и премиальных, переработках и выходных, и Еленка вскоре совсем освоилась, потому что новый помощник не обращал на нее никакого внимания.
– Вот ты говоришь: смесь богатая, – сказал слегка захмелевший Иван. – Ладно, богатая. Так. А есть резон регулировать? Есть резон экономить? Нету такого резона, потому что тут не об экономии думать надо, а наоборот: куда лишнее горючее деть.
– Много? – спросил Сергей.
– Две тонны вот тут. – Иван похлопал себя по шее. – Движок старый, масло жрет в три горла, а кто с этим считается? Нормы единые – по отношению к топливу. Вот и приходится из-за масла нормы завышать: пишешь «сто моточасов», а на самом-то деле хорошо, если полсмены отработал.
– Да и самому, наверно, не без выгоды, – усмехнулся Сергей. – Ты, капитан, не хмурься: нам теперь в одном кубрике щи хлебать.
– Катер наш на побегушках, и платят нам повременно, – сказал Иван, закуривая. – Просто глупость получается, вот какое дело. И не хотел бы, а сам собственной рукой каждый месяц моточасы приписываю, иначе без масла останусь.