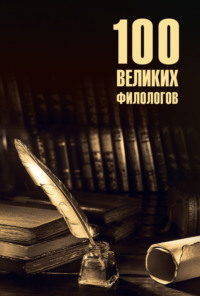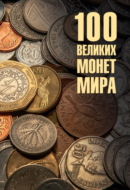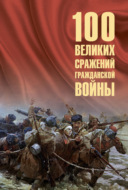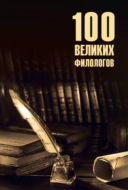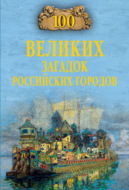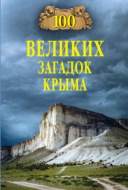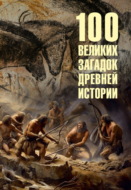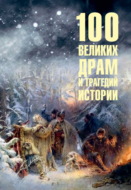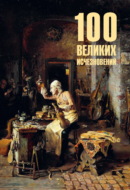Kitobni o'qish: «100 великих филологов»
© Соколов Б.В., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Никола Буало-Депрео
(1636–1711)
Французский поэт, критик и теоретик классицизма Никола Буало-Депрео родился 1 ноября 1636 года в Париже в семье секретаря парижского парламента Жиля Буало, богатого чиновника и адвоката. С 1643 по 1652 год Буало учился в коллежах Аркур и Бове Сорбонны и получил хорошее образование в области права и богословия, но предпочел стать поэтом и критиком. В 1646 году он принял духовный сан и стал каноником, так как из-за неудачной хирургической операции в 12‐летнем возрасте стал импотентом. После смерти отца Буало получил богатое наследство, что гарантировало ему большую пожизненную ренту. Он целиком отдался литературной деятельности. С 1663 года Буало стал публиковать мелкие стихотворения, а затем сатиры, вошедшие в его наиболее известный поэтический сборник «Сатиры» (Satires) (1660–1668), которому было предпослано теоретическое «Рассуждение о сатире». Большинство «Сатир» были обращены против уважаемых, но бездарных писателей-современников. Буало был убежден: «Не злобу, а добро стремясь посеять в мире, / Являет истина свой чистый лик в Сатире». С начала 1670‐х годов Буало стал близок ко двору, а в 1677 году король Людовик XIV назначил его, вместе с драматургом Жаном Расином, своим официальным историографом. Никола Буало-Депрео умер в Париже 13 марта 1711 года.
В афористической поэме-трактате в четырех песнях «Поэтическое искусство» (L’art poétique) (1674) Буало изложил эстетику классицизма. Он был убежден, что в поэзии, как и обыденной жизни, выше всего должен быть поставлен bon sens, т. е. разум или здравый смысл, который должен подчиниться фантазия и чувство. Еще в «Сатирах» Буало высказал мысль о том, что в поэзии смысл должен господствовать над рифмой, а не «покорствовать ей». Он предлагал поэтам: «К рассудку применись: пускай стихи твои получат от него все прелести свои». Буало полагал, что как по форме, так и по содержанию поэзия должна быть общепонятна, но легкость и доступность не должны переходить в пошлость и вульгарность, стиль должен быть изящен, высок, но в то же время прост и свободен от вычурности и трескучих выражений. Буало советовал поэтам не увлекаться внешними эффектами («пустой мишурой»), чрезмерно растянутыми описаниями и отступлениями от основной линии повествования, а придерживаться дисциплины мысли и самоограничения, а в стихах соблюдать разумную меру и лаконизм. Он предостерегал поэтов: «Остерегайтесь же пустых перечислений, / Ненужных мелочей и длинных отступлений! / Излишество в стихах и плоско и смешно: / Мы им пресыщены, нас тяготит оно. / Не обуздав себя, поэт писать не может». Автор «Поэтического искусства» был поклонником классической формулы Горация «поучать развлекая». Буало выступал против смешения жанров и потакания дурным вкусам читателей и зрителей: «Уныния и слез смешное вечный враг. / С ним тон трагический несовместим никак, / Но унизительно Комедии серьезной / Толпу увеселять остротою скабрезной. / В Комедии нельзя разнузданно шутить, / Нельзя запутывать живой интриги нить, / Нельзя от замысла неловко отвлекаться / И мыслью в пустоте все время растекаться. / Порой пусть будет прост, порой – высок язык, / Пусть шутками стихи сверкают каждый миг, / Пусть будут связаны между собой все части / И пусть сплетаются в клубок искусный страсти! / Природе вы должны быть верными во всем, / Не оскорбляя нас нелепым шутовством». Поэт утверждал роль страсти и силы в эстетическом опыте. Буало считал, что «Невероятное растрогать неспособно. / Пусть правда выглядит всегда правдоподобно…» Здесь он полемизировал с мнением драматурга Пьера Корнеля, утверждавшего, что «сюжет прекрасной трагедии должен не быть правдоподобным». Буало считал, что нельзя любоваться уродствами человеческих характеров и отношений, поскольку тем самым нарушается закон правдоподобия, и подобные приемы неприемлемы как с этической, так и с эстетической точки зрения. Поэтому художник не может просто запечатлеть факты, отразившиеся в истории или мифе. Он обязан критически подойти к ним и при необходимости отбросить или переосмыслить некоторые из них согласно законам разума и этики. Согласно этой теории, в пьесах наиболее острые моменты действия – убийства, разного рода ужасы и кровопролития – должны совершаться за сценой, так как «Волнует зримое сильнее, чем рассказ, / Но то, что стерпит слух, порой не стерпит глаз». В предисловии к собранию своих сочинений Буало писал: «Что такое новая блестящая необычная мысль? Невежды утверждают, что это такая мысль, которой никогда ни у кого не являлось и не могло явиться. Вовсе нет! Напротив, это мысль, которая должна была бы явиться у всякого, но которую кто-то один сумел выразить первым». Поэма Буало стала настоящим кодексом изящного вкуса, притом не только для Франции. Буало призывал в искусстве следовать природе. После публикации поэмы «Поэтическое искусство» при королевском дворе за Буало закрепился титул Законодателя Парнаса. А в 1684 году по повелению короля поэт был избран во Французскую академию. Однажды король Людовик XIV, согласно преданию, захотел, чтобы Буало оценил его стихи. Поэт остроумно ответил: «Ваше величество! Для вас нет ничего невозможного: вам захотелось написать плохие стихи, и вы сделали это». Канонами совершенной поэзии Буало объявил творения античных поэтов. Своей комической поэмой «Налой» (Le Lutrin, 1674–1683) он хотел продемонстрировать, что такое истинный комизм, и высмеял грубые фарсы современной ему комической литературы. В «Трактате о возвышенном» (Traité du sublime) (1674), представляющем собой перевод сочинений древнегреческого писателя Лонгина, и в «Критических размышлениях о Лонгине» (Réflexions critiques sur Longin) (1694–1710) Буало отстаивал превосходство античных поэтов над современными французскими. Лучшими же поэтами Франции своего времени он справедливо считал своих друзей Расина и Мольера. Он утверждал: «Лучше невежество, чем ложные знания», поскольку «Только истина прекрасна, лишь она любви достойна». Буало оказал большое влияние на русскую литературу XVIII века и, в частности, на таких поэтов, как А.Д. Кантемир, А.П. Сумароков и В.К. Тредиаковский. Последний впервые перевел «Поэтическое искусство» на русский язык. Буало также является автором книг «Послания» (Épîtres) (1669–1695), «Диалог о героях романа» (Dialogue sur les héros de roman) (1688), «Письма Шарлю Перро» (Lettres à Charles Perrault) (1700), и др.

Никола Буало. Художник Г. Риго. 1704 г.
Уильям Джонс
(1746–1794)
Британский филолог, переводчик и востоковед, валлиец по национальности. Родился 28 сентября 1746 года в Лондоне в семье математика сэра Уильяма Джонса (1675–1749), который умер, когда сыну было три года, и Мэри Джонс, урожденной Никс, дочери столяра-краснодеревщика. С детства Джонс обнаружил необыкновенные способности к языкам, его называли «лингвистическим вундеркиндом». Еще во время учебы в школе Уильям, кроме своих родных английского и валлийского, выучил греческий, латынь, персидский, иврит и арабский, а также овладел основами китайской письменности. К концу своей жизни он свободно знал восемь иностранных языков, бегло говорил еще на восьми, имея под рукой словарь, и мог читать еще на двенадцати языках. Джонс учился в Хэрроу, одной из самых престижных школ Англии в 1753–1764 годах, а в 1768 году окончил Университетский колледж Оксфорда. В 1763 году, еще студентом, он сочинил на латыни поэму «Каисса» об изобретении шахмат, названную в честь вымышленной фракийской дриады, считавшейся в эпоху Ренессанса богиней шахмат. Джонс довольно быстро получил известность как филолог-востоковед. В 1773 году он защитил магистерскую диссертацию. После окончания Университетского колледжа Джонс в течение 6 лет работал репетитором и переводчиком. По просьбе короля Дании Кристиана VII он перевел с персидского на французский язык «Историю Надир-шаха» в двух томах (Muhammad Mahdī, Histoire de Nader Chah), написанную Мирзой Мехди ханом Астарабади. Этот перевод, вышедший в 1770 году, стал первой научной публикацией Джонса. В благодарность за сделанную работу король пожаловал Джонсу членство в Датской королевской академии наук и литературы. В 1770 году Джонс поступил в Миддл-Темпл и в течение трех лет изучал юриспруденцию, что стало подготовкой к работе в Индии. Он был избран членом Королевского общества 30 апреля 1772 года. В 1773 году Джонс также был избран членом Литературного клуба, а в 1780 году стал его президентом. Некоторое время он служил окружным судьей в Уэльсе. Во время Американской войны за независимость Джонс, поддерживавший независимость североамериканских колоний, вел безуспешные переговоры об урегулировании с Бенджамином Франклином в Париже, а в 1780 году столь же безуспешно баллотировался в парламент от Оксфорда.

Уильям Джонс. Гравюра с портрета кисти Дж. Рейнольдса. XVIII в.
4 марта 1783 года Джонс был назначен главным судьей Верховного суда в Форт-Уильяме, Калькутта, Бенгалия, а 20 марта был посвящен в рыцари. В апреле 1783 года он женился на Анне Марии Шипли, старшей дочери доктора Джонатана Шипли, епископа Ландаффского и епископа Сент-Асафского. Анна Мария использовала свои художественные способности, чтобы помочь Джонсу документировать жизнь в Индии. 25 сентября 1783 года они прибыли в Калькутту. Джонс увлекся индийской культурой и 15 января 1784 года основал в Калькутте Азиатское общество для ее изучения. Он познакомился с древнеиндийскими письменными памятниками, значительно усовершенствовал свои знания санскрита и перевел на английский язык многие важнейшие документы и памятники индийской истории. Иногда Джонс использовал псевдоним «Юнс Уксфарди», что по-арабски означало «Джонс из Оксфорда». В частности, под этим псевдонимом была опубликована его «Персидская грамматика» (A Grammar of the Persian language) (1771). Он сделал 11 ежегодных докладов перед Азиатским обществом о своих научных исследованиях. Джонс писал об индийских законах, музыке, литературе, ботанике и географии и сделал первые английские переводы нескольких произведений индийской литературы.
Уильям Джонс умер в Калькутте 27 апреля 1794 года от болезни печени.
За время своего пребывания в Индии Джонс опубликовал много работ по Индии, положив начало ее научному изучению практически во всех гуманитарных науках. В своей речи по случаю третьей годовщины образования Азиатского общества» 2 февраля 1786 года (Third Anniversary Discourse to the Asiatic Society) (1788) он предположил, что санскрит, греческий и латинский языки имеют общую основу и что все они могут быть связаны, в свою очередь, с готским и кельтским языками, а также с персидским. Джонс постулировал существование протоязыка, общего для санскрита, персидского, греческого, латинского, германского и кельтского языков. Он утверждал: «Пять основных народов, которые в разные века делили между собой, как своего рода наследство, обширный Азиатский континент и многие близкие к нему острова, – это индийцы, китайцы, татары, арабы и персы. Что это были за народы, откуда и когда они пришли, где они располагаются сейчас, и что нам сулит более глубокое их изучение, будет сказано, как я надеюсь, в пяти различных докладах, последний из которых продемонстрирует сходство или различие между народами и ответит на главный вопрос: есть ли у них какие-нибудь общие корни, и те ли это корни, которые мы обычно для этих народов устанавливаем». По поводу Индии он утверждал следующее: «Можно только пожалеть, что ни те греки, которые сопровождали Александра в его походе в Индию, ни те, кто долгое время был связан с этой страной в правление бактрийских князей, не оставили нам ни малейшей возможности узнать, какие местные языки они обнаружили, прибыв в эту империю. Мусульмане, насколько нам известно, слышали, что люди с полуострова Индостан, то есть из Индии, говорили на бхаша, живом языке весьма необычного строя, самый чистый диалект которого был распространен в местностях вокруг Агры, и главным образом в поэтической местности Матхура; его обычно называют языком Враджи. Возможно, пять из шести слов этого языка восходят к санскриту, на котором сочинялись религиозные и научные труды и который, судя по всему, создавался, как следует из его названия, путем тонкой грамматической систематизации из некого неотшлифованного говора. Но основа хиндустани, в особенности флексии и глагольное управление, так же отличается от обоих этих языков, как арабский от персидского или немецкий от греческого. Сейчас последствия завоевания для языков завоеванных народов в целом таковы, что эти языки остаются в своей основе неизмененными или изменяются лишь слегка, но заимствуют значительное число чужеземных слов, обозначающих как предметы, так и действия. Так было во всех случаях, какие приходят мне на ум, когда завоеватели – турки в Греции или саксы в Британии – не сумели уберечь свой язык от смешения с языком завоеванных. Такого рода аналогии могли бы заставить нас поверить, что чистый хинди татарского или халдейского происхождения был исконным языком Верхней Индии, куда санскрит был принесен в очень далекие времена завоевателями из других государств, ибо мы не можем сомневаться, что язык Вед использовался на обширных территориях страны (что уже отмечалось прежде), поскольку религия брахманизма в этой стране возобладала». Джонс так сформулировал суть сравнительной лингвистики: «Санскритский язык, какова бы ни была его древность, обладает удивительной структурой, более совершенной, чем греческий, более богатой, чем латинский, и более изысканной, чем каждый из них, но носящий в себе столь сильное сходство с этими двумя языками, как в корнях глаголов, так и в формах грамматики, что оно не могло быть порождено случайностью; родство настолько сильное, что ни один филолог, который занялся бы исследованием этих трех языков, не сможет не поверить тому, что все они произошли из одного общего источника, который, быть может, уже более не существует: имеется аналогичное основание, хотя и не столь убедительное, предполагать, что и готский, и кельтский языки, хотя смешанные с совершенно различными наречиями, имели то же происхождение, что и санскрит; к этой же семье языков можно было бы отнести и древнеперсидский, если бы здесь было место для обсуждения древностей персидских».
Джонс был первым, кто предложил расовое разделение Индии, связанное с вторжением ариев, на, по сегодняшней терминологии, австралоидов и европеоидов, но в то время не было достаточных доказательств в поддержку этого тезиса, сейчас общепринятого. Джонс придавал большое значение этимологии, но настаивал, что совпадение слов в разных языках необязательно говорит о родстве этих языков: «Без сомнения, этимология приносит определенную пользу историческим исследованиям; но как способ доказательства она столь ненадежна, что, проясняя один факт, затемняет тысячу других и чаще граничит с бессмысленным, чем приводит к точному выводу. Схожесть звуков и букв редко несет сама по себе большую убедительную силу; однако часто, не получая никакой помощи от этих преимуществ, она может быть бесспорно доказана внешними данными. A posteriori нам известно, что и fitz, и hijo […] происходят от filius; что uncle происходит от avus, а stranger – от extra […]; все эти этимологии, хотя их и нельзя доказать a priori, могли бы послужить подтверждением – если бы оно было необходимо – того, что некогда существовала связь разных частей великой империи. Но если мы производим английское слово hanger (небольшой меч) от персидского, потому что некоторые невежды так записывают слово khanjar, хотя оно и обозначает совсем другое оружие […], мы нисколько не продвигаемся в деле доказательства родства народов и только ослабляем те аргументы, которые в противном случае получили бы прочное подтверждение».
В «Эссе о т. н. подражательных искусствах» (Essay on the Arts called Imitative) (1772) Джонс указал на природные истоки романтической поэзии: «Если аргументы, использованные в этом эссе, имеют хоть какой-то вес, то окажется, что лучшие части поэзии, музыки и живописи выражают страсти… нижние части из них описывают природные объекты».
Уильям Джонс является автором следующих работ по филологии, кроме уже упомянутых: «Муаллакат, или Семь арабских поэм, которые были вывешены на храме в Мекке; с переводом и аргументами» (The Moallakát: or seven Arabian poems, which were suspended on the temple at Mecca; with a translation, and arguments) (1783); «Беседа об учреждении общества изучения истории, гражданской и естественной, древностей, искусств, наук и литературы Азии» (A discourse on the institution of a society for enquiring into the history, civil and natural, the antiquities, arts, sciences, and literature of Asia) (1784); «Диссертация по орфографии азиатских слов латиницей» (A dissertation on the orthography of Asiatick words in Roman letters) (1786), и др.
Вильгельм (Фридрих Вильгельм Кристиан Карл Фердинанд) фон Гумбольдт
(1767–1835)
Немецкий филолог, философ, дипломат Вильгельм фон Гумбольдт родился 22 июня 1767 в Потсдаме. Его отец, барон Александр Георг фон Гумбольдт (1720–1779), был отставным майором прусской армии, камергером кронпринца и успешным предпринимателем. Мать, баронесса Мария-Елизавета фон Гольведе, урожденная де Коломб (1741–1796), происходила из семьи французских гугенотов, бежавших в Пруссию после отмены во Франции Нантского эдикта о веротерпимости в 1685 году. После смерти первого мужа, барона Гольведе, она унаследовала большое состояние. Вильгельм изучил право, политику, историю и классическую филологию в университетах Франфурта-на-Одере и Геттингена. В 1791 году он женился на Каролине фон Дахереден (1766–1829), дочери президента судебной палаты Пруссии барона Карла Фридриха фон Дахередена. Их дворец Тегель в Берлине стал модным литературным салоном. Гумбольдт дружил с Фридрихом фон Шиллером (1759–1859) и Иоганном Вольфгангом фон Гете (1749–1832). В июне 1794 года Гумбольдт поселился в Йене, чей университет стал центром немецкой идеалистической философии и романтического движения. Здесь он также изучал новую развивающуюся дисциплину – сравнительную анатомию, идеи которой позднее использовал при создании теории общей и сравнительной лингвистики. Осенью 1797 года он и его семья переехали в Париж. В 1799–1801 годах Гумбольдт совершил две этнолингвистические экспедиции в Страну Басков, посетив как испанскую, так и французскую ее части. В Париже Гумбольдт завершил свой главный эстетический труд, «Эстетические эксперименты. I. О «Германе и Доротее» Гете» (Aesthetische Versuche I. Ueber Goethes Herrman und Dorothea) (1799). В 1803–1898 годах Гумбольдт служил прусским посланником (министром-резидентом) в Ватикане. В это время, помимо изучения баскского языка, он углубленно занимался древнегреческим языком и литературой и перевел на немецкий «Олимпийские оды» Пиндара, трагедию Эсхила «Агамемнон» и некоторые другие, более мелкие произведения. В предисловии к «Агамемнону» Гумбольдт изложил свою теорию перевода. В Риме он также написал эссе «Лаций и Эллада» (Latium und Hellas) (1806) и «Историю упадка и падения греческих республик» (Geschichte des Verfalls und Untergangs der griechischen Freistaaten) (1807–1808). В Риме Гумбольдт занялся языками индейцев Америки. Он уже просил своего брата, географа и путешественника Александра фон Гумбольдта (1769–1859), перед его отплытием в Новый Свет поискать лингвистические материалы во время путешествий по Южной и Центральной Америке. Глава Папской квиринальской библиотеки испанец Лоренцо Эрвасом (1753–1809) позволил Вильгельму фон Гумбольдту ознакомиться с обширным собранием грамматик и материалов о коренных народах Америки и даже скопировать их. Это послужило основой для изучения Гумбольдтом американских языков. Он считал римские годы самыми счастливыми в своей жизни.
После разгрома Наполеоном прусской армии при Йене и Ауэрштедте Гумбольдт вернулся на родину осенью 1808 года и без большого восторга согласился на должность главы отдела по делам церкви и образованию в министерстве внутренних дел. Тем не менее в 1809–1810 годах он провел радикальную реформу системы образования, от начальной и средней школы до университета, основанную на принципе бесплатного и всеобщего образования. Гумбольдту принадлежит идея объединить преподавание и научные исследования в одном учебном заведении, осуществленная при создании Берлинского университета в 1810 году, в дальнейшем стала образцом не только для всей Германии, но и для современных университетов в большинстве западных стран. Как и следовало ожидать, Гумбольдт настоял на том, чтобы Университет был наделен земельной собственностью, чтобы обеспечить его независимость от государства. Эта идея встретила противодействие прусского дворянства, и в 1810 году Гумбольдта отправили послом в Вену, где он в дальнейшем убедил Австрию присоединиться к Антинаполеоновской коалиции. В Вене он сделал наброски грамматик для нескольких языков Южной и Центральной Америки, написанные на французском языке, которые должны были стать частью отчета его брата о путешествиях по Америке. В 1811 году Вильгельм фон Гумбольдт опубликовал по-французски обширное философское и методологическое сочинение «Эссе о языках нового континента» (Essai sur les langues du Nouveau Continent), которое должно было стать введение к его исследованию грамматики языков индейцев Северной и Южной Америки.

Вильгельм фон Гумбольдт. Скульптор Б. Торвальдсен. 1808 г.
В 1815 году Гумбольдт подписал Парижский мирный договор с Францией, а затем – с побежденной Саксонией. В дальнейшем Гумбольдт был представителем Пруссии в Бундестаге во Франкфурте-на-Майне, а в дальнейшем был послом в Лондоне, где изучил санскрит в библиотеке Британского музея и с помощью Банковского дома Ротшильдов организовал программу финансовой помощи для восстановления разрушенной войной прусской экономики.
В 1819 году Гумбольдт был возвращен в министерство внутренних дел, чтобы возглавить комитет по разработке новой конституции Пруссии. Но его тщательно разработанный план введения либеральной конституции, которая превратила бы Пруссию в конституционную монархию, не был принят. Гумбольдт решительно сопротивлялся репрессивным мерам правительства против гражданского общества и отстаивал сохранение гражданских свобод. Поэтому король Фридрих Вильгельм III в Рождество 1819 года отправил его в отставку. За исключением продолжительного визита в Париж и Лондон в 1828 году, Гумбольдт провел остаток жизни в семейном поместье в Тегеле, занимаясь научными исследованиями.
Вильгельм фон Гумбольдт скончался 8 апреля 1835 года в Тегеле близ Берлина. Перед смертью он завещал свою коллекцию лингвистических материалов, включая собственные рукописи, Королевской прусской библиотеке в Берлине, чтобы она была доступна широкой публике для дальнейших исследований.
Гумбольдт утверждал: «Всякая человеческая индивидуальность есть коренящаяся в явлении идея. В некоторых случаях это до того ярко бросается в глаза, точно идея лишь затем приняла форму индивида, чтобы в ней совершить свое откровение».
Поворот к филологии у Гумбольдта произошел в связи с его открытием и новаторскими исследованиями баскского языка, идиомы, происхождение и структура которого ранее не поддавались никаким попыткам объяснения историками, философами и лингвистами. Он опроверг все прежние теории о происхождении и принадлежности баскского языка. Гумбольдт занялся изучением баскского языка, используя письменных источники, информаторов-басков, статистику, исторические, этнологические и социологические источники, многие из которых он собрал во время экспедиций. Изучение баскского языка совпало с созданием Гумбольдтом новой концепции языка. Философия языка и лингвистика стали занимать центральное место в творчестве Гумбольдта.
В июне 1820 года Гумбольдт представил Берлинской академии план создания новой дисциплины сравнительного языкознания и изложить ее методологию в статье «О сравнительном изучении языка и его связи с различными периодами языкового развития» (Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung). Он рассматривал функцию языка не как простую передачу существующих идей и концепций, а как «формирующий орган мышления», который является инструментом для создания новых концепций, которые без него не возникли бы. Различия между языками для него не были различиями в «звуках и знаках», но в конечном счете «различиями в представлении мира». Гумбольдту казалось неправильным отделение друг от друга философии языка и эмпирической лингвистики, поскольку лингвистика нуждается в концептуальной философской базе. По мнению Гумбольдта, эмпирическое исследование фактического использования языка на примерах разных языках с совершенно различными структурами дало бы философу конкретное понимание природы человеческого языка, которое иначе постигнуть невозможно.
С помощью своего брата Александра Вильгельму удалось собрать, вероятно, самую большую коллекцию лингвистических материалов в Европе своего времени. На земном шаре практически не было языковой группы, которая не привлекла бы его внимания. Гумбольдт знал и изучал древнегреческий, латынь, санскрит, все романские языки, английский, баскский, древнеисландский, литовский, польский, словенский, сербохорватский, армянский, а также венгерский. В той или иной степени он также знал иврит, арабский и коптский, для которого он даже написал грамматику. Из азиатских языков Гумбольдт изучал китайский, японский, сиамский и тамильский. В центре его работы, помимо баскского языка (он считается основателем басковедения), находились родные языки Южной, Центральной и Северной Америки, а с 1827 года также – языки Тихоокеанского региона от Восточного побережья Африки до Гавайев и островов Южного моря, образующие то, что сегодня называют австронезийской языковой семьей, чье существование Гумбольдт впервые убедительно доказал. Всего в его архиве сохранились исследования, заметки, наблюдения и материалы, относящиеся более чем к 200 языкам. В личном и публичном общении Гумбольдт, кроме немецкого, широко использовал французский, английский, итальянский и испанский.
В статье «О задаче историка» Гумбольдт отличает историческое понимание от простых дедуктивных рациональных процедур, называя его ассимиляцией исследовательской способности и исследуемого объекта. Он также вводит понятие «предсуществующей основы понимания».
В последние годы жизни Гумбольдт работал над исследованием языка кави на острове Ява в контексте австронезийской языковой семьи, но успел завершить только введение и 1‐ю главу, которые были опубликованы в 1836 году в 1‐м томе под названием «Работа по кави» (Kawi Werk). Незавершенные 2‐й и 3‐й тома были опубликованы в 1838 и 1839 годах. Американский лингвист Леонард Блумфилд (1887–1949) так отозвался об этом труде: «Второй том великого трактата Гумбольдта положил начало сравнительной грамматике малайско-полинезийской языковой семьи». Гумбольдт полагал, что характер и структура языка выражают внутреннюю жизнь и знания его носителей, и поэтому языки должны отличаться друг от друга точно так же, как и те, кто их использует. Звуки не становятся словами до тех пор, пока в них не будет вложен смысл, и этот смысл воплощает мысль сообщества. Под внутренней формой языка он понимал способ обозначения отношений между частями предложения, который отражает то, как определенная группа людей относится к окружающему миру. Задача морфологии речи, по Гумбольдту, состоит в том, чтобы различать способы, которыми языки отличаются друг от друга в том, что касается их внутренней формы, и классифицировать и упорядочивать их соответствующим образом.
Посмертно были опубликованы «Основы лингвистического прототипа» (Grundzüge des allgemeinen Sprachtypus), «О грамматической структуре языков» (Vom grammatischen Baue der Sprachen) и «Гетерогенность языка и его влияние на интеллектуальное развитие человечества» (Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts) (1836).
Александр фон Гумбольдт говорил о своем брате, что ему было дано «глубже, чем, вероятно, какому-либо другому человеческому разуму, проникнуть в структуру наибольшего числа языков. Его широкомасштабные и амбициозные эмпирические исследования космоса человеческих языков охватили практически весь земной шар». А историк Иоганн Густав Дройзен (1808–1884) назвал Гумбольдта «Френсисом Бэконом исторических наук».