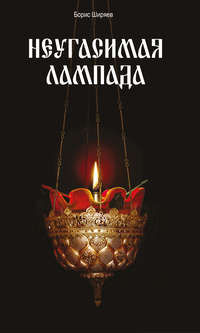Kitobni o'qish: «Неугасимая лампада»
© Издательство «ДАРЪ», 2009
Об авторе
Судьба писателя Бориса Николаевича Ширяева одновременно и уникальна, и типична для русского интеллигента. Познакомившись с его биографией, читатель поймет смысл этого утверждения.
Борис Ширяев родился в Москве 27 октября (ст. ст.) 1889 г., где окончил гимназию и историко-филологический факультет (некоторое время он учился и в Германии, в Генттингеме). Перед талантливым студентом открывалась научная карьера, но началась Первая мировая война, и 25-летний филолог ушел добровольцем на фронт. После развала фронта Ширяев вернулся в Москву, ставшую «красной». С началом Гражданской войны, сделав свой политический выбор, он отправляется на юг России, в Добровольческую армию. Попав в плен к красным, Ширяев был приговорен к смертной казни, однако сумел бежать за несколько часов до исполнения приговора. Во второй раз был приговорен к смертной казни в Москве в 1922 году, но приговор был изменен: 10 лет концлагеря на Соловках (позже срок заключения был сокращен). По отбытии наказания он был отправлен в ссылку в Среднюю Азию, в 1930 году очутился в Харькове и до Великой Отечественной войны жил в разных городах Северного Кавказа – читал лекции в высших учебных заведениях. Вскоре после оккупации Северного Кавказа немцами Ширяев оказался в лагере в Германии, а в начале 1945 года судьба забросила его в Италию – в лагерь для перемещенных лиц. Именно в Италии Борис Ширяев окончательно сформировался как писатель. После первого труда «Обзор современной русской литературы» (1946) он пишет в Риме рассказ «Соловецкая заутреня», ставший камертоном последующей «Неугасимой лампады» (1954) – самой известной книги писателя, которая была впервые издана в Советском Союзе лишь в 1991 году.
Трагическая документальность, проникновенность повествования о мужественном преодолении страданий тысяч русских людей принесли этой книге заслуженную любовь читателей. Особенно потрясает сила духа заключенных и несломленная любовь к жизни и Богу. Борис Ширяев как-то сказал: «Соловки – поистине святой остров. Его атмосфера такова, что там нельзя не прийти к Богу».
Скончался писатель в 1959 году в итальянском городе Сан-Ремо. Вечная ему память. И пусть никогда не гаснет зажженная силой его таланта спасительная лампада…
Неугасимая лампада
Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко».
Часть первая
В сплетении веков
Глава 1
Святые ушкуйники
Над гребными колесами привезшего нас на Соловки парохода алела полукругами ясно заметная издалека надпись «Глеб Бокий»; но плоха ли была краска или маляру не хватило олифы, – присмотревшись, вблизи можно было прочесть другую, скрытую под ней, крепко, глубоко всосавшуюся в оструганные еще на монастырской верфи доски – «Святой Савватий».
Есть годы, скручивающие тугим, неразрывным узлом столкнувшиеся во времени века, сплетающие в причудливый до невероятия узор прошлое с будущим, уходящее с наступающим. В них то сходятся, то расходятся, обрываются и снова возникают нити человеческих жизней, развертывается ткань сомкнутых поколений, но, лишь отойдя на грань положенного срока, можно разобраться в загадочных извивах их узоров. Такими я вижу теперь Соловки первой половины двадцатых годов, последний монастырь – первый концлагерь, в котором прошлое еще не успело уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие.
Соловки – дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с Духом вечным, Господним.
Темная опушь пятисотлетних елей наползает на бледную голубизну студеного моря. Между ними лишь тонкая белая лента едва заметного прибоя. Тишь. Покой. Штормы редки на Полуночном1 море. Тишина царит и в глуби зеленых дебрей, где лишь строгие черницы-ели перешептываются с трепетно-нежными – таких нежных нигде, кроме Соловков, нет – невестами-березками. Шелковистые мхи и густые папоротники кутают их застуженные долгой зимой корни. А грибов-то, грибов! Каких только нет! Кряжистые, похрустывающие грузди, подосинники – щеголи красноголовые, боровики – купцы московские, тугие – не уколупнешь, робкие белянки, укрывшиеся под палой, пахнущей сладимой прелью листвой, стыдливые, как невесты на выданье, а к осени – ватаги резвых, озорных опенок лезут, толкаясь, на пни и валежник…
Остров невелик, длиной 22 версты, шириной 12, а озер на нем 365 – сколько дней в году. Чистые, ясные, студеные, битком набиты они стаями шустрых, игорливых ершей. Донья – каменистые; круглые, обточенные веками булыжники пригнаны плотно друг к другу, словно на московской мостовой. В полдень видно все, что творится на дне, каждый камешек, каждую рыбешку… Дебря соловецкая мирная. Святитель Зосима вечный пост на нее наложил: убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новогородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поседали весной на пловучие льдины и уплыли к дальнему кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем. Но заклятия на них святитель не наложил.
– И вы, волки, твари Божие, во грехе рожденные, во грехе живущие. Идите туда, на греховную матерую землю, там живите, а здесь – место свято! Его покиньте!
С тех пор лишь робкие, кроткие олени да пугливые беляки-зайцы живут на святом острове, где за четыре века не было пролито ни капли не только человечьей, но и скотской горячей крови.
Множество древних сказов записано узорной вязью древнего полуустава на пожелтелых листах соловецких летописей, разметанных налетевшей на святой остров непогодью и снова собранных по темным подклетям пришедшими в монастырь новыми трудниками.
Множество чудесных былей рассказывали и чернецы, оставшиеся на Соловках по скончании монастыря. Многое, уже забытое на Руси, они еще помнили. Недаром чутко слушавший народную молвь поэт писал:
Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим.
Так в Соловках нам рассказывал
Инок честной Питирим…
Теперь иноки эти – рыбаки на службе у лагерного управления, а отец Софроний даже советский чин имеет: начальник рыбоконсервного завода. Один лишь он знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди. Другой такой в мире нет: жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбице, ни осетровой тешке. В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кеми в Москву уходил – к самому царю. Жаловал Тишайший монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповки, а к Великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. Об этих обозах в «кладовых листах» не раз писано, а в «рухольных» – ответные царские дары мечены: златотканые ризы парчовые, золотые панагии и чаши, убранные самоцветами, заморского веницейского мастерства, шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, московских великих княжон.
Кое-что из этого и теперь осталось, стоит за стеклом в бывших палатах архимандрита – теперь антирелигиозном музее. Там же и раки с мощами святителей Зосимы и Германа. Открыты у них лишь главы да персты нетленные, а Савватий закрыт – нетленен весь.
Соловецкие монахи – особенные. Других таких по всей Руси не было: не в молитве, а в труде спасались. Обычай этот древний, от самих святителей повелся, когда они первый храм Господен на Соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Храм тот был во славу святого Преображения Господня учрежден, и стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь. Только намного он теснее алтаря был. Более двенадцати чернецов в себя не вмещал.
Так в истинных древнего писания житиях сказано.
Ладья же, на которой святители на остров прибыли, в ту же ночь волею Господней сама назад к матерому берегу уплыла и там на причал стала. Таково было дано знамение: святителям на острове оставаться и далее на Полночь не идти, новым же трудникам во имя Господне с Руси на той ладье прибывать и трудом души свои оберегать от бесовского мирского искушения и напастей.
Иеромонах Никон, что монастырским гончарным заводом раньше управлял, рассказывал, как он с подначальными трудниками и к службе Божией только раз в году поспевал, на Светлое Христово Воскресение. Тропари же, ирмосы и псалмы пели каждодневно, глинку замешивая и печь растопляя.
– Телесное тружение – Господу служение, обители – слава и украшение, бесам же блудным – поношение, – поучали богомольцев чернецы и сами пример показывали.
От монахов и богомольцы тот обычай переняли: придет человек помолиться, отстоит молебен у мощей святителей-тружеников, да и останется на год сам потрудиться во славу угодников Божиих. По обету многие трудились год, два и три, покаяния усердного и просветления духа ради. Ими, трудниками земли Русской, возведены и неодолимая волной Муксоломская дамба – стена на море, и нерушимые стены Соловецкого кремля, мало чем Московскому уступающие: длиною округ верста три четверти, толщею же превыше московских. Сложены они из непомерных валунов по указу благочестивого государя Феодора Иоанновича, радением Бориса Годунова, правителя царства, ближнего боярина и царского шурина.
Петр-император, посетивший Соловки, тоже здесь потрудился: выточил на голландском станке и сам вызолотил резную сень над архимандритовым местом в Преображенском соборе. Висит теперь и она в том же музее.
Обычай сильнее времен. Он нижет на себя годы, как нить – скатные бурмицкие зерна. Сменились века, рухнуло Московское царство, нет более и благоверных его царей, а идут к святому острову трудники со всей земли Русской, и нет им конца-краю.
Тугим узлом закручены безвременные годы, и в невиданном разноцветий сплелись в нем пестрые нити людских жизней.
Когда последний соловецкий архимандрит уводил чернецов в Валаам в 1920 году, иные из них по древности лет или по усердию остались в обители и с ними – схимник-молчальник, в глухой дебре, в затворе спасавшийся. Проведала о том новая власть, и раз, в весеннюю пору, подкатил на коне к схимниковой печуре-землянке сам начальник новый Ногтев сотоварищи. Пил он сильно и тут хмельной был, сбил затвор и в печуру… бутылку водки в руке держит.
– Выпей со мной, распросвятой отец опиум! Попостился – пора и разговеться! Теперь, брат, свобода! Господа Бога твоего отменили декретом… – стакан наливает, старцу дает и матерится по-доброму.
Встал старец от своей лампады и молча земной поклон Ногтеву положил, как покойнику, а поднявшись, на открытый свой гроб указал: «помни, мол, там будешь».
Переменился Ногтев в лице, бутыль за дверь кинул, сел на коня и ускакал. Пил потом месяц без перестану, старцу же приказал паек выдавать и служку к нему из монахов назначил.
Сплелись две нити из двух веков и вновь разошлись по своим путям, указанным свыше. А немое речение старца сбылось: году не прошло, как нагрянула из Москвы комиссия, дознались, что Ногтев серебряных литых херувимов с иконостаса спекулянтам продал, и расстреляли его, раба Божьего.
Провидел смерть его старец. Дано ему было то, как святителю Зосиме, узревшему обезглавленными новгородских бояр на пиру у Марфы Борецкой, Посадницы.
Древнее житие святителя об этом так повествует: когда обитель уже обширною стала и притекли к ней многие люди со всея Руси, тогда земли Полуночные – Беломорские, Кемские, Пермские, Сорока, Кола и Печора, вплоть до самого Каменного пояса, под рукою московского царя не были. Господин Великий Новгород ими володал; пенили его дерзкие ушкуи волны широких полуночных рек, сбирали его вольные дружинники – ратники и ставленные на вече тиуны дань с темных, диких лесных людей: куны, лису чернобурую, соболя… Таким ратником-землепроходцем и святитель смолоду был, а после, когда воздвиг обитель, пошел он к светлому Ильмень-озеру, чтобы там на вече грамоты на новые земли испросить.
С великою честью приняли старца новгородские бояре. Наслышан был Господин Великий Новгород о славе его подвига. Не только землями монастырь наделили – всем кемским берегом, Колой и Сорокой, – но поставили и утвердили на вече: архимандриту его все народы тех стран под своею высокой рукою держать, суд им творить и сбирать с них дань в обительскую казну. Встречать же того архимандрита в его волости превыше, как князя и посадника, но как владыку митрополита: во все колокола бить и путь ему от моря до палат алым сукном стлать.
В те годы всем Новгородом, пятинами его и концами посадница Марфа Борецкая правила, и, провожая старца в далекий обратный путь, созвала она на пир всех бояр. На пиру том отверзлись очи святителя, и узрел он грядущее; видит: сидят за столом бояре – все без голов…
Так и сбылось. Посек гордые головы грозный московский царь, попалил огнем новогородское торжище и подворья, но жалованную обители честь, земли, ловы и соляные варницы утвердил большой печатью Московского царства.
Закопали Ногтева в бору, на том самом месте, где в стародавние времена воевода Мещеринов схоронил мятежных иноков соловецких, петлею им удавленных. Тоже давно это было; в царствование Тишайшего, по приказу Никона-патриарха. Монастырь тогда новопечатных книг не принял.
Мало того: старцы обители соборно обличительное послание патриарху написали.
Суров и непреклонен был Никон. Самому царю властью своею патриаршей указывал он путь. Тверд был и архимандрит-игумен: слово свое супротив патриаршего поставил, ересиархом нарек Никона и грамоты о том по всем северным обителям разослал.
Никон стрельцов от царя истребовал, отдал их под начал своего патриаршего боярина Мещеринова и двинул ратную силу на святую обитель. Не устрашился ее игумен, затворил окованные железом врата перед патриаршим воеводой и выкатил пушки на кремлевские стены. Снова воспрянула супротив Москвы вольности новгородской гордыня, и многие годы стоял под стенами Соловецкого кремля воевода Московского патриарха, «собинного» друга царя… Землянки, в которых жили патриаршие стрельцы, видны и теперь за монастырским кладбищем, на самой опушине бора. От них лишь ямки остались.
Устояла бы и дале твердыня древнего благочестия, но не судил того Господь. Некий чернец, имя его в житиях не указано, переметнулся к Мещеринову и указал ему тайный ход, под стеною кремля к озеру Святому прорытый. По тому ходу в кремль вода под землею шла.
Темною ночью потаенно вошли тем ходом в обитель патриаршие стрельцы, схватили архимандрита в его келье и, часу не теряя, на то же утро увезли в железах к патриарху.
Крови, однако, пролить на святом острове и Мещеринов не посмел: петлею наиболее упорных старцев передушил. Иноки, оставленные в живых, истинный честной крест на могиле умученных поставили, и горели небесным огнем невидимые свечи округ того креста в ночь на Светлое Христово Воскресение. Засветится ли такая свеча на могиле Ногтева – неведомо.
* * *
Соловецкая обитель зачалась в буйные времена новогородских ушкуйников. Сбивали они свои струги на Ильмень-озере и шли на них, кто – на Полночь, к студеному морю-океану, кто – на восход, к дикой гряде Каменного пояса; то сами в ладьях плыли, то их на себе волокли; просекали неизведанные дебри и пустыни; брали под руку Господина Великого Новгорода весь, мерю, чух-лому и других сумрачных, скуластых лесных людей, рубили городцы из нетесаных смолистых бревен и шли, шли, шли…
Но была тогда и иная ушкуя. Она рождалась не под набатным гулом вечевого колокола, но под сладостными напевными звонами Софии Премудрости Божией. Не на поиск новых земель, не за прибыльной рухлядью, рыбьим зубом и пушистыми мехами зверя Полуночных дебрей слал ее этот звон, но за тем, что во стократ дороже, за тем, чего не купить было на шумном торжище новогородском, за познанием света Премудрости Божией, сокрытого в безмолвии пустыни. Шли, искали и находили…
Такими ушкуйниками были и соловецкие первосвятители Герман, Зосима и Савватий, приплывшие по Полуночному морю на безмолвный дотоле остров. Первым словом человеческим, сказанным на берегах его, было: «Хвалите имя Господне ныне и присно и во веки веков. Аминь!» – повествуют древние рукописные жития, уцелевшие от сокровищ книжной палаты соловецкого архимандрита.
Упал вечевой колокол, сорванный грозной рукой московского царя. Он – временный, земной, человеческий. Но пели свою горнюю песнь звонницы Святой Софии. Они – вечные, Божеские. Им отзывались из ясной озерной глубины незримые колокола преображенного града Китежа, им вторили деревянные била первого храма соловецкого, сложенного из валунов и нетесаного бурелома, во имя светлого преображения. Алчущая и жаждущая преображения Духа своего святая Русь пела хвалу Создавшему горы и дебри, моря и океаны, Сотворившему человека по образу и подобию Своему. Светлого преображения Духа искали на Соловках святые ушкуйники. Потому и главный собор был воздвигнут там во имя Преображения Господня.
* * *
В 1922 году Преображенский собор сгорел. Его сожгли первые большевистские хозяева острова, чтобы скрыть расхищение ценностей, украшавших его древний пятиярусный иконостас и оставленных в ризнице ушедшей на Валаам братией. В те годы зарево великого пожарища стояло над всей Русью. Новые хозяева жгли украшавшие ее сокровища Духа.
Сотворенное человеком – видимое – сгорало. Сотворенное Богом – невидимое – жило. Оно – вечно.
Четыре века со всей Руси притекали трудники к стенам Соловецкой обители. Земные, отягченные злобой, грехом, изъязвленные, смрадные, покрытые гноем и струпьями в душах своих, сбрасывали они тяготу своих грехов, бремя земной юдоли у гробниц святителей соловецких, омывались покаянными слезами, и многие в жажде светлого преображения трудились во имя Божие, кто год, кто три, кто пять. Иные оставались тут навек и погребены на острове.
Века сплетаются. Оборвалась золотая пряжа державы Российской, святой Руси – вплелось омоченное в ее крови суровье РСФСР, а в них обоих в тугом узле – тонкие нити жизней новых соловецких трудников, согнанных метелью безвременных лет к обугленным стенам собора Святого Преображения.
О них – эта запись безвременных лет.
Глава 2
Первая кровь
Вот наконец они, страшные Соловки, рассказам об ужасах которых мы жадно внимали в долгие, тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные, молитвенные Соловки, о которых повествовала тихоструйная молвь странников, молитвенников и во Христе убогих земли Русской. Святой остров Зосимы и Савватия, монастыря с созерцателями-монахами, нежным маревом бледных берез и тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов святой Руси…
И теперь… тянутся сюда новые трудники и тоже со всех концов Руси, но уже не святой, а поправшей, разметавшей по буйным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувшей крест и звезде поклонившейся.
Тяжелый девятидневный путь, от Москвы до Кеми, в специальном арестантском вагоне – позади. Девять дней в клетке. Клетки – в три яруса по всей длине вагона; в каждой клетке – три человека, в коридор – решетчатая дверь на замке, там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только лежать. Пища – селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона; потом узнали: мертвеца, чахоточного, взятого из тюремной больницы.
Подходим к острову. «Глеб Бокий» дал уже три сигнальных свистка.
На носу парохода сотни каторжан сбились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Мы еще не успели перезнакомиться, узнать друг друга. Среди втиснутой в трюм и на палубу тысячи лишь изредка мелькают знакомые лица. Вот мои сотоварищи по лежачему «купе» в «особом» вагоне, рядом с ними генерального штаба полковник Д., полурусский-полушвед, выпрямленный, подтянутый и здесь, а около него – ящик, самый обыкновенный деревянный ящик, но из него вверху торчит взлохмаченная голова, а с боков – голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемском пересыльном пункте проиграть с себя все.
Блатной закон не знает пощады: проиграл – плати. Не знает пощады и ГПУ: остался голый – мерзни. Ноябрь на Соловках – зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбивают мелкую дробь.
Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берете с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю: прельстившись «страною свободы», он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал… на Соловки. Поеживаясь, поет «Мадлен», но жизнерадостности не теряет.
Ко мне протискивается сидевший в той же, что и я, камере Бутырок корниловец-первопоходник Тельнов, забытый при отступлении больным в Новороссийске. Его лицо беспрерывно подергивается судорогой – старая контузия, память о бое под Кореновкой.
– Дошли до точки! Дальше что?
Что дальше? Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям вырисовывающегося в тумане острова. Порыв ветра приподнимает туманную пелену, и с неба прямо на ставшие ясными стены монастырского кремля падает сноп лучей. Перед нами вырастает дивный город князя Гвидона на фоне темных, еще не заснеженных елей. Золотые маковки малых церквей высятся над окружающими их многобашенными стенами, теснятся к обгорелой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен… Над усеченным куполом колокольни – шест; на нем – обвисший красный флаг.
Красный флаг, свергнувший крест, стал на горнее место над сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь, древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости сложенных из непомерных валунов кремлевских стен; она устремляется к небу куполами уцелевших монастырских церквей, она зовет к тайне темнеющей за монастырем дебри.
Кажется, вот-вот выйдут из пены прибоя тридцать три сказочных богатыря и пойдут дозором по берегу… Но вместо них к пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях и остроконечных шлемах. Соловки, видимо, готовы к приему нас.
– Выходи по одному с вещами! Не толпись у сходней! Стройся в две шеренги!
Казалось бы, куда и зачем торопиться? У каждого впереди долгие годы на острове. Но привычка берет свое: на сходнях давка, чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из рук сумку, и он истошно орет. Толчея и на берегу. Наконец построены, хотя вместо шеренги причудливо извиваются какие-то зигзаги.
Приемка начинается. Перед рядами «пополнения» появляется начальник, вернее, владыка острова – товарищ Ногтев. Этому человеку предстояло в течение всего первого года нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее, от изломов его то похмельной, то пьяной психостенической фантазии зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. И он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами, одними из многих, в лапах которых мы уже побывали и принуждены были оставаться еще долгие годы.
– Здорово, грачи! – приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно. Руки Ногтева засунуты в карманы франтовской куртки из тюленьей кожи – высший соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза.
Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь.
– Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах – изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям.) То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас – свой закон, – далее дается пояснение этого закона в выражениях мало понятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного.
– Ну, а теперь, – заканчивает свою речь Ногтев, – которые тут есть порядочные – выходи! Три шага вперед, марш!
В рядах – полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте.
– Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну, там, попы, шпионы, контра и такие-прочие… Выходи!
Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужденные и заклейменные на материке множеством позорных кличек, здесь, на острове-каторге, мы становимся «порядочными». Но что сулит нам эта «порядочность»?
Большая половина прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему.
Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить.
– Эй, опиум, – кричит он седобородому священнику московской дворцовой церкви, – подай бороду вперед, глаза – в небеса, Бога увидишь!
Приветствие окончено. Наступает деловая часть – приемка партии. Ногтев вразвалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова.
Перед нами нач. адм. части Соловецких лагерей особого назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно не бритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта горилла жирна, жирна, как боров. Красные, лоснящиеся щеки подпирают заплывшие, подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала идет перекличка духовенства. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо выглядывающего из будки Ногтева и сбиваются в кучу за пристанью.
Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие.
– Какой срок? – спрашивает он седого как лунь епископа, с большим трудом ковыляющего против ветра, путаясь в полах рясы.
– Десять лет.
– Смотри, доживай, не помри досрочно! А то советская власть из рая за бороду вытянет!
Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь каэров2.
– Даллер!
Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ногтева. Вероятно, так же спокойно и вместе с тем сдержанно и уверенно входил он прежде в кабинет военного министра. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от споротых галунов, – в другую.
Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ногтева.
Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно, заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку, один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, шапку отряхнул о колено и, воровато оглянувшись, сунул в карман. Перекличка продолжалась.
– Тельнов!
Я сидел с ним в одной камере Бутырок и слушал его сбивчивые, несколько путаные, но полные ярких подробностей рассказы о Ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал, он не раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозою смерти того, кто уже проходил страшную грань отрешения от надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащее из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Пригнувшись, втянув голову в плечи, он почти пробегает двадцать шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится.
Все мы глубоко, облегченно вздыхаем и чувствуем, как обмякают наши напряженные до судорог мускулы.
– Следующий!.. – выкрикивает мою фамилию Васьков.
Меня! Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются, но я знаю, что нужно идти. Стоять на месте нельзя.
– Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его! – шепчу я беззвучно.
Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащей его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под обшлаг тюленьей куртки. Ее я не забуду всю жизнь.
Но я иду. Дуло все ближе и ближе… Вот поднимается… нет… показалось. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике.
Осталось десять шагов… восемь… шесть… пять…
Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней – жизнь и смерть. Каждая секунда – вечность. Четыре шага…
Зажмуриваюсь и прыгаю вперед. Бегу.
Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза.
– Да!
Рядом со мною Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию, не мою, теперь не мою!
Было страшно? Страшнее урагана немецкой шрапнели? Страшнее резки проволоки под пулеметным дождем?
Был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача – смерти безвестной, жалкой, собачьей… Ощущение бессилья, порабощенности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым.
Но кончено! Я жив! Радость жизни наполняет всего меня. Она разливается по жилам, пьянит, заставляет ликовать, животно, по-дикарски… Жив! Жив! Я не знаю, что будет завтра, через час, через минуту, но сейчас я жив. Дуло карабина и держащая его рука – позади.
Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемках почти каждой партии. Ногтев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал, скорее, добродушен во хмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение «закону соловецкому».
Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам, и уголовникам, случайно привлекшим чем-нибудь его внимание.
Москва не могла не знать об этих беззаконных даже с точки зрения ГПУ расстрелах (многие из заключенных продолжали оставаться под следствием и в ссылке), но молчаливо одобряла административный метод Ногтева: он был и ее методом. Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в Ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним из пунктов обвинения были эти самочинные расстрелы.
Через 15 лет так же расплатился за свою кровавую работу всесоюзный палач Ягода. Вслед за ним – Ежов.
Участь «мавров, делающих свое дело» в СССР предрешена.