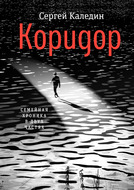Kitobni o'qish: «Площадь Борьбы»
На этих кладбищах было похоронено столько безызвестных предков, дедов и прадедов, каких-то никогда не виденных нами стариков, что эта земля казалась русской не только сверху, но и вглубь на много саженей…
Константин Симонов
© Б. Д. Минаев, 2021
© «Время», 2021
* * *

Часть первая
Плита
Медицинский гипс получают из гипсового камня (сернокислая известь), прокаливая его в специальных печах при температуре не выше 130°С. В результате гипсовый камень теряет воду, становится хрупким и легко растирается в мелкий белый порошок. Качество гипса зависит от ряда условий, в частности от срока пребывания в печи, температуры прокаливания, размера ячеек просеивающих сит. Хранить гипс нужно в сухом месте, так как от этого зависит степень его влажности.
Медицинский гипс должен быть белого цвета, тонко промолотым, мягким на ощупь, не иметь комков, должен быстро затвердевать и быть прочным в изделиях.
Выполняя гипсовые работы, нужно брать две весовые части гипса на одну часть воды. При излишке воды замедляется затвердение гипса. При высокой температуре гипс затвердевает быстрее, при низкой – медленнее. В некоторых случаях для более быстрого затвердения гипса в воду добавляют квасцы (20 г на ведро воды).
Благодаря своим уникальным свойствам, гипс активно используется в стоматологической практике, являясь вспомогательным средством при протезировании зубов или исправлении прикуса. И это – единственный материал, который со временем не потерял своей актуальности.
Гипс в поликлинику привозили в мешках, обломками, сухой материал, его нужно было держать в воде, чтобы получилось что-то вроде пластилина, и это была целая история – потому что если не дотерпеть, не додержать, то он расплывался в руках, и ничего не поделаешь, а если передержать, то вынимался изо рта вместе с зубом, это был непрочный, предательский, очень плохой материал. Считалось, что, перед тем как замачивать, нужно посолить воду, Ароныч страшно смеялся над этим, но иногда – Петя видел, как это происходит, – Ароныч действительно солил воду, он думал, что Петя не видит этого, если повернуться к нему спиной и заслонить от него солонку, то есть это не была солонка, он просто держал соль в эмалированной кружке, в такой же, из какой пил чай, только та для чая была, синяя, а эта – темно-синяя. Короче, он брал оттуда рукой соль, солил, как кашу, и после этого замачивал гипс.
Нужен был некоторый опыт, Ароныч называл это искусством врача, чтобы вынимать изо рта больного слепок вовремя.
– Ну вот смотри, – говорил Ароныч. – Ну вот как с бабой у тебя, ты должен почувствовать, на раз, на два, на пять, опа! – и вынимаешь… Понятно?
Петя краснел, он еще не знал, когда вынимать и что вообще имеется в виду, понял потом, а когда понял, долго смеялся, – Ароныч стоял лицом к окну и тайком от него отсыпал из кружки соль, стеснялся, на его лбу налипал всегда клок волос, оставшийся от былой шевелюры на мощном лысом черепе. И солнце ласкало его веснушки на лбу.
Ароныч в сущности был красив.
В восьмидесятых он еще работал, продолжал лечить, протезировать.
– Ты учти, – говорил он ему тогда, в 82-м, когда Петя пришел к нему на практику в поликлинику на Большой Дорогомиловской, – мы зубы не просто лечим, а заговариваем. Анекдоты знаешь?
Петя пожимал плечами.
– А должен знать… Ну вот, записывай. Брежнев…
В восьмидесятые годы Ароныч вообще любил поговорить с ним про Брежнева. Брежнев был какой-то его любимой темой, которую он тщательно обдумывал, смаковал и делился ею не со многими, только с самыми любимыми людьми.
– Смотри, Петька, – говорил Ароныч, когда они выходили на перекур или пообедать, – смотри, вот ты знаешь все это, да? Многосисячный коллектив, мирное сосу-сосу-сествование, социалиссический лагерь и так далее. Ты все это, конечно, знаешь, но смотри – ведь люди думали, что это мы ему зубы нормальные поставить не можем, да? А ведь это не так, это совсем не так. Его кто только не лечил, его сам Евдокимов лечил, Дольников лечил, у него лучшие протезисты были, к нему немцев приглашали, они ему сделали все высший класс, и он все равно звуки не выговаривал и все время ныл, ныл, ныл – сделайте мне нормальные зубы, сделайте мне нормальные зубы, готов был на любую боль, любые материалы: стеснялся, что не может говорить, ему это надо было по работе, понимаешь, да?.. И вот вдруг выяснилось, что это у него вовсе не зубы, а лицевые мышцы были не в порядке, от седативных препаратов, назначили ему в Четвертом управлении, чтобы лучше спал и не волновался.
Петя равнодушно кивал. Брежнев казался ему не совсем человеком, а какой-то сущностью (бывают такие пеньки в лесу, именно что не коряги, не пни, а замшелые пеньки, иначе не скажешь), почему-то поставленной надо всеми, надо всей практически планетой, такая вот странная, дикая прихоть бога, несчастный замшелый пенек над всей планетой, – но в рассказе Ароныча Брежнев вдруг приобретал человеческие черты, как-то неуловимо, незаметно, но приобретал.
Стоматология в восьмидесятые годы, когда Петя пришел в поликлинику, мало чем отличалась от прежней, той, что застал Ароныч еще в сороковые и пятидесятые. Это была закрытая система. Врачи, как и все, жили за железным занавесом, новые материалы и технологии вообще никак не просачивались. Лишь в середине восьмидесятых стали постепенно появляться композитные материалы чешского производства, например эвикрол – он придавал пломбе природный цвет зуба, да и вообще был гораздо лучше, на него было приятно смотреть, но его практически не водилось в Москве. Исключение составляло лишь 4-е управление Минздрава, которое обслуживало ЦК КПСС и прочие такие хорошие конторы. Там эвикрол был гораздо раньше, в то время как все обычные люди еще ходили по-прежнему с серо-буро-малиновыми или золотыми коронками, и ничего, не жаловались.
Петя хорошо знал эти золотые коронки по улыбке отца. Когда отец улыбался, все лицо преображалось, появлялось некое сияние, и Петя никак не мог понять, сияют ли его золотые мосты слева и справа, или это некое внутреннее сияние, или это то и другое вместе, было даже интересно об этом думать. А однажды отец спросил Петю, ел ли он когда-нибудь ворон, Петя даже не понял, переспросил, ну ворон, ворон, нетерпеливо пояснил отец, таких, знаешь, черных птичек с клювом, нет, конечно, оторопев, ответил Петя, а что? Да так, сказал Петин отец, просто мы во время войны их часто готовили…
И улыбнулся.
В этой золотой улыбке и вправду было что-то магическое, Петя как-то на секунду обалдевал, когда ее видел, она погружала его в транс, ему хотелось понять тайный смысл этой улыбки, – ну вот, например, эта история про ворон.
А дело было в том, что отцу незадолго до того подарили живую курицу, такое с ним во время его долгой практики случалось, в данном случае ее принесли в пустом огромном картонном ящике из-под телевизора «Темп». Было понятно, что в ящике живет что-то необычное, ящик был мятый и странно пах. Наконец папа открыл створки и расхохотался, а что мне с этим делать, сказал он, интересные дела, – да ну, возьмите, Яков Израйлевич, ответил женский голос, то ж от чистого сердца. Она еще поцеловала его в щеку в порыве чувств, мужик, который нес ящик, вежливо откланялся, надел ондатровую шапку и вышел, а тетка еще ласково потопталась, и они вместе с папой долго смотрели внутрь ящика. Ему все время что-то приносили – какие-нибудь банки с солеными помидорами в подарок, армянский или молдавский коньяк, шампанское, сухую колбасу – финский сервелат, салями, колбаса волшебно пахла, но отец брезгливо откладывал ее на дальний конец стола. Живая курица, конечно, экзотика, а это была не просто курица, а совсем молодая курица, практически цыпленок, но уже большой цыпленок, его поселили на балконе, дали миску, насыпали крупу, но на ночь решили перенести в ванну. И всю ночь в доме бегали и не спали, потому что курица (цыпленок) орала и скреблась, ей было плохо в новом месте, и тогда папа наутро грубым голосом велел ее сварить, а как я ее сварю, жалобно сказала мама, что я ей, топором голову отрублю? Щас, гордо ответил папа, пошел и быстро свернул голову цыпленку, мама закричала и даже заплакала: зачем ты это сделал, ну можно было не при ребенке, ну я же врач, сконфуженно сказал папа и посмотрел на Петю. А потом снова улыбнулся своей золотой улыбкой. Отец не был стоматологом, у него была другая специальность, Ароныча он просто знал с самого детства и говорил о нем так:
– Ну это же просто сумасшедший.
Однажды Ароныч заказал на кладбище такую плиту: мраморную, полированную, черную, с надписью – «Соловьев Михаил Аронович, 30 октября 1929…» – и пустое место для окончательной гравировки, которую сделают уже потом.
Мастер граверных дел Виктор Иванович (они с ним часто выпивали, когда Ароныч приезжал на Востряково проведать мать) спросил его с большим интересом:
– Ну и чего?
– В каком смысле?
– Куда отвезешь-то ее, Миш?
– Пока в машину отнесу, – скупо ответил Соловьев. – Кстати, у тебя грузчики есть?
Пока Ароныч договорился, пока грузчики искали пятого, поскольку плита была тяжелая и волочь ее можно было только впятером, прошло еще некоторое время – и они с Виктором Ивановичем дополнительно маленько посидели, побазарили. Пить-то было нельзя, сам за рулем, Виктор Иванович тоже на работе, ну а хотелось страшно. Уж очень момент был такой…
– Ну хорошо, отвезешь домой, а потом? – не унимался Виктор Иванович.
– Чего потом? Найду синяков каких-нибудь возле дома, в квартиру дотащат, – скупо отозвался Ароныч. – Положу куда-нибудь аккуратно. Не уроним в грязь твою работу, Виктор Иванович.
– Так… ну а потом? – не унимался мастер.
– Я не знаю, что потом… – грубовато сказал Ароныч. – Потом отдельный участок куплю, туда поставлю. У матери на могиле не буду пустой памятник держать. Нехорошо.
– Ну смотри… – пожал плечами Виктор Иванович. – Можно же у нас пока… За аренду помещения много не возьму.
Ароныч неприязненно пожал плечами и двинулся к выходу.
В багажник плита поместилась – но, правда, не вся. Торчала наружу. Пришлось приматывать ее веревкой, которая быстро нашлась в глубине багажника, но до того тухлая и промасленная, что Ароныч даже брезгливо поморщился, когда прилаживал. Сама плита была чистая, новенькая, хорошо пахла и сияла, прямо как крышка от рояля. Ну просто красота, хоть садись и играй на ней траурный марш Шопена.
Ехал осторожно, на скорости сорок-пятьдесят кэмэ, таких осторожных гаишники останавливают сразу.
– Чего везешь? – спросил первый гаишник, красномордый богатырь с рыжими глазами.
– Надгробная плита… – сухо ответил Ароныч и даже не вынул сигарету изо рта для приличия. – Близкому родственнику.
– А куда?
– Пока домой.
– А почему не на кладбище?
– Так он еще не умер…
Богатырь несколько секунд смотрел прямо – смотрел без выражения, рыжими зрачками, с выцветшими на палящем солнце ресницами…
– Ты давай на поворотах не газуй.
– Есть, командир.
Дома Ароныч поставил машину во дворе, попросил соседских мальчишек, которые чеканили мячик, присмотреть за ней пять минут (багажник-то был открыт, из него торчал край) и быстро подошел к магазину, где на заднем дворе, как всегда, ошивались двое алкашей, Вася и Сережа.
– Тяжелую вещь надо нести, на пятый этаж… – не тратя лишних слов выдохнул Ароныч. – Десятку даю.
Вася и Сережа радостно согласились, только уточнили, что за вещь.
Услышав ответ, оба тихо присвистнули. Вася при том свистел с каким-то неприятным шипением.
– Давай, Серега… сходи за ними… – попросил он товарища. – Они там, во дворе тринадцатого дома.
– Сам сходи… – зло ответил Сережа.
Кашлюна Сережу этого Ароныч хорошо помнил, и тот его хорошо помнил тоже.
Года два назад этот синяк, то есть полностью спитой мужчина, подошел к нему ночью во дворе (Ароныч возвращался из гостей) и тихо-тихо сказал:
– Слышь, сосед… Помоги, помираю я, зуб очень болит. Я заплачу. Ты же зубной, я же тебя знаю.
Кабинет у Ароныча был частный, на дому. Время было двенадцать ночи.
Каждый день у него был расписан по минутам. Ароныч помолчал, потом кивнул, и они вместе поднялись в лифте на восьмой.
Да, конечно, было немного страшно: как даст по башке. Но почему-то, глядя на этого Сережу, на его скрюченное лицо, на этот кашель и трясущиеся руки, он успокаивался все больше – нет, не врет.
Ароныч прицепил себе на нос прищепку, чтобы не чувствовать адского запаха сивухи, пота и грязи, Сережа даже не обратил на это внимания, но запах не проходил, мешал, потом распахнул пошире окно – посадил его на клеенку, включил лампу, попросил открыть пасть.
Удалил ему тогда все зубы, какие мог, здоровых там оставалось едва ли половина, может быть треть, – не хотелось, чтобы он приходил еще. С обезболиванием, все как положено. Поставил лекарство. Дал даже горсть анальгина.
– А коронки? – гордо спросил вдруг Сережа в конце. – А лечение?
– Заработаешь – приходи… – спокойно ответил Ароныч. И пошел мыть руки.
Вот с тех пор они друг друга и знали, хотя и делали вид, что не знают. Сережа через пару дней незаметно всунул ему во дворе все имевшиеся, видимо, у него в наличии деньги – трешку, два мятых грязных рубля и еще пару рублей мелочью. Треху взял, остальное вернул обратно.
…Наконец дружок Вася вернулся еще с двумя синяками.
– Точно десятка на всех? – подозрительно спросил один.
– Да. Но нам пятый нужен, друзья… – спокойно ответил Ароныч. – А то не донесете.
– Пятого у нас нет… – сказал кашлюн Сережа и подмигнул ему. – Сам вставай. Не переломишься.
Заняла вся эта история, наверное, около часа. Ароныч, конечно, просто проклял тот день, когда все это придумал и заказал плиту у Виктора Ивановича. Если грузчики на Востряковском были ребята тренированные, мускулистые, спокойные, то эти доходяги на пятый этаж волокли скорбный груз исключительно силой духа – они шатались, орали, падали на колени, часто-часто отдыхали, воняли, плакали, – он шатался и подыхал вместе с ними. Все, кто был в доме, выскочили на лестницу, чтобы увидеть, что тут вообще происходит.
Наконец занесли плиту в квартиру.
– Ну, куда? Куда ставить? – заорал под конец Вася, он был у них как бы старшой.
– Под кровать кладите, вот сюда… – прохрипел Ароныч, и они все тут же почти упали.
– Дальше двигай! Дальше!
Плиту задвинули внутрь, под кровать, насколько это было возможно. И все равно черный краешек заметно торчал наружу. Никуда она не помещалась.
Выпили водички. Покурили.
Он расплатился, и герои пошли сразу в магазин – делить десятку на четверых.
Синяк Сережа, с большими дефектами речи, давний его знакомый и, можно сказать, пациент, задержался в дверях.
– Слышь, доктор… – спросил он тихо с интересом. – А это все зачем?
– Знаешь что… – зло сказал Ароныч. – Заработал, так иди. – И потом в спину ему добавил, когда Сережа уже шагнул за порог: – Мне положиться в этом вопросе не на кого.
Синяк Сережа удовлетворенно кивнул и вышел, вежливо и тихо прихлопнув за собой дверь.
Плита лежала себе спокойно целый день, не вызывая никаких чувств, но ночью Ароныч вдруг резко проснулся. Он нащупал тапочки, пошел в туалет, потом на кухню попить водички. Плита краем вылезала из-под кровати и смутно блестела. Он испугался. Пощупал ее босой ногой, вспоминая, что и как.
Становилось по ночам прохладно, и влажный воздух на Самотеке, в низине, превращался почти в молоко.
«Ну пусть лежит, – примирительно подумал он. – Хлеба не просит. Законодательством не запрещено».
Конечно, не собирался он держать эту плиту дома вечно. Собирался купить участок получше и поставить ее там. Кому какая разница, умер владелец или нет? К тому же не сам Ароныч это придумал, плит таких, с «открытой датой», немало было в тихих углах Востряковской обители.
– Пойми, Миш… – объяснял ему однажды полузнакомый бухгалтер с Трехгорки, когда они сидели в дорогой шашлычной «Казбек» на Пресне. – Ты пойми, Миш… Ну вот я умру, да?.. Ну вот придет час икс, как говорится. И что? Похоронные я им оставлю? А кто мне гарантирует, что они всё правильно сделают? Ты мне это гарантируешь? Нет, извини. Извини. Я все сделаю заранее. Я все! Сделаю! Заранее!
Разговор этот пьяный почему-то ему запомнился.
С Верой он давно развелся. Дети собирались в Израиль. Жил он уже несколько лет с Аллой, помощницей. Ну оставит он ей похоронные, и что?
Ему даже больно становилось при мысли о том, как она, подневольная девушка, идет в мастерскую заказывать плиту – родственников-то никаких нет, бывшая жена не в счет, надо ей самой все делать, и вот идет она, и заказывает, и заказывает… Нет! Нет! Ничего хорошего из этого не получится! Все будет не так!
Плиту заказал быстро, а вот с участком попросили еще подождать.
– Ну ты же у забора ложиться не хочешь? – тихо спросил его в конторе добрый знакомый Сергей Альбертович. – Не хочешь, понятно дело… Там МКАД, там гарь, пыль… Или мы куда-то торопимся?
Да нет, решили не торопиться. Ждать, когда выделят достойный его высокого социального статуса участок.
– Мы что, куда-то торопимся? – опять спросил Сергей Альбертович, когда он пришел во второй раз.
Вновь пришлось подтвердить свою принципиальную позицию – нет, не торопимся.
Потом уезжали дети, было как-то не до того, потом наступил мутный 1989-й год, потом пошла плясать губерния, новые цены, валютное регулирование, обменники, черный вторник, он сдавал рубли, покупал доллары, опять сдавал, опять покупал…
Участок рос в цене, падал в цене, а плита все лежала и лежала у него под кроватью.
Он к ней привык. И как-то даже перестал замечать.
Иногда только просыпался, трогал ее ногой, вставал и смотрел в окно, туда, вниз, на Самотеку.
…В том доме, где жил Сима Каневский, во 2-м Вышеславцевом переулке, бывали они с ребятами довольно часто, заходили туда как-то совсем просто, даже сами не зная зачем. Он, то есть Мишка Соловьев, потом еще Яша Либерман, Шамиль Мустафин, ну еще Колька Лазарев. Мать Симы Каневского кормила их всегда. В любой ситуации. Она всегда была дома, всегда улыбчиво смотрела большими черными глазами из-под высоких бровей. Всегда велела мыть руки и усаживала за стол. Если она была больна, то вставала с постели. Если у них дома было шаром покати, она все равно усаживала за стол и открывала неприкосновенный запас – какую-нибудь селедку доставала, залом, который берегла к празднику. Но, как правило, на кухне всегда что-то варилось. Вкусно пахло. Скатерть была белая или розовая. Тарелки блестели. На столе рядом с тарелками лежали ножи и вилки из старого, черного, иногда гнутого от старости серебра. Они с ребятами сидели и молча чинно ели.
Может, благодаря этому длинному столу с белой (или розовой) скатертью Сима и застрял в их компании. Вообще он им не подходил, он был тихий мальчик, ангельского типа. Когда он собирался после обеда с ними на улицу, мама Каневская всегда кричала ему вслед:
– Сима, надень шарф!
Он возвращался и надевал шарф. В еврейских семьях всегда есть такие мамы, но не всегда их слушаются. Он слушался. Поэтому про него был сочинен стих, вернее, песня:
– Сима, надень калоши! Сима, надень пальто! Сима, не пей какао! Сима, пей молоко!
Они начинали орать эту песню, как только за ним захлопывалась скрипучая калитка и он выбегал на улицу следом за ними. Мама всегда его останавливала – на одну минуту, но останавливала: заставляла переобуваться, переодеваться.
Эта скрипучая калитка вела в сад. В саду росли яблони, вишни, кусты смородины, из грядок торчала зелень, там был дровяной сарай, возвышался старый ледник, которым пользовались все, тропинки уходили куда-то вдоль забора в укромные места, в углу участка стоял шалаш. В общем, в этом саду хотелось побыть.
А внутри сада стоял дом.
Иногда Ароныч просыпался ночью, садился на кровати и смотрел сверху вниз на плиту. Ему уже не нужно было ни включать свет, ни открывать занавески, чтобы ее увидеть. Плита стала светиться в темноте, может быть проявились свойства камня, кто его знает, откуда там набирали эту мраморную крошку, из какого радиоактивного карьера, а может, дело было в другом – в общем, она слегка светилась, и Ароныч как зачарованный смотрел на нее – на ее край, который по-прежнему вылезал из под кровати полукругом. И можно было даже ставить на нее босые ноги. И, разглядывая этот полукруглый край, он видел все довольно отчетливо.
Например, видел свою бормашину, старую, когда-то она стояла у него в стенном шкафу, за одеждой. Первые десять лет она там стояла, пока он работал «без оформления», и если приходил пациент, он сдвигал вешалки, и с некоторым скрипом торжественно выезжала на колесиках бормашина, это была особая, под размер шкафа сделанная конструкция, по его заказу, он все придумал, нарисовал, объяснил, десять раз все переделывали, но в результате бормашина стояла в шкафу, он отодвигал рубашки, пиджаки, их было три или четыре, потом отодвигал зимнее пальто на меховой подкладке, и машина красиво выезжала на колесиках, гордая и блестящая, внушая трепет и восторг. Он гордился своей идеей и гордился конструкцией, а если вдруг приходили случайные люди – скажем, слесарь из ЖЭКа проверять трубы перед отопительным сезоном, нет ли воздушной пробки, была у них такая манера, или еще агитаторы перед выборами в Верховный Совет СССР, спрашивали, хорошо ли Ароныч помнит, что в воскресенье день выборов, и точно ли знает, за кого надо голосовать, или участковый Иван Сергеич, не дай бог, каждый раз он вздрагивал при виде этой строгой милицейской формы, унимал сердце валидолом, но участковый приходил за какой-то ерундой, сверять свои длинные списки, кто прописан, нет ли посторонних жильцов, ну и так далее, – короче говоря, бормашину быстро можно было задвинуть в шкаф, а пациенту дать в руки чашку с чаем, типа вот старый друг в гости пришел, здрасьте, а что случилось?
А ничего не случилось, но чего это у друга улыбка такая кривая и вата во рту? Но никто почему-то не спрашивал.
По такой системе работали половина частных зубных протезистов Москвы. Иметь дело с фининспектором никому не хотелось, муторно, да и оформление было долгим – нужно было иметь, на секундочку, десять лет стажа, получить две рекомендации от заслуженных врачей РСФСР, справку из ЖЭКа, справку из райисполкома, справку оттуда, справку отсюда, и это к тому же никого ни от чего не гарантировало.
Это не гарантировало ни от малых, ни от больших неприятностей, даже самых больших. Поэтому лучше было так. Без оформления.
Плита светилась в темноте, и Ароныч смутно вспоминал, что все жильцы в их доме, там, на Хорошевском шоссе, конечно, знали, что именно таится у него в шкафу, какой такой «скелет», но никому было это не надо – стучать на соседа-врача, тем более на зубного врача, вдруг пригодится. Знакомый врач – это в Москве большая ценность, да и везде ценность, да и не тридцатые, чай, годы, и не пятидесятые, стукачей стало меньше, меньше стало стукачей все-таки. Но и теперь, задним числом, было Михаилу Аронычу Соловьеву очень страшно. Сидя на кровати и щупая босыми ногами осторожно эту черную плиту с золотыми буквами, он чувствовал, как бухтит сердце. Фининспекторы ведь бывали разные, одного звали Борис Григорьевич, это было потом, когда он все уже оформил как положено, платил налоги, как официальный надомник. Борис Григорьевич, жаба, приходил с большим портфелем и шелестел бумажками, Ароныч никогда в жизни не слышал ничего страшнее, этот шелест бумажек приводил его в исступление, он выходил на кухню и стучал зубами о стекло, выпивая один стакан воды из-под крана за другим, больной в это время сидел тоже на кухне с открытым ртом, весь в вате и крови, с вытаращенными от ужаса глазами. Борис Григорьевич мог шелестеть бумажками долго, так-так, говорил он, как будто лаяли овчарки и гудели сибирские ветра над сторожевыми вышками, так-так, наконец Ароныч додумался снаряжать Аллу, чтобы она переодевалась к его визиту во все короткое, а иногда даже просто накидывала халат на голое тело, прямо на лифчик, и приносила чаю, кофе на подносе, и белый халат накинутый сразу на лифчик иногда помогал, а иногда нет, и тогда опять шелестели бумажки. А дело-то было в том, что была такая история, с этим золотом: приходили люди и просили сделать золотые коронки, и вот тут он сразу вспоминал этот шелест бумажек у Бориса Григорьевича в руках, незаконный оборот, скупка-продажа так называемая, и все в Москве знали про один случай, со стоматологом, которого помиловали в последний момент и заменили на четырнадцать с конфискацией, и то только благодаря хорошему адвокату…
Ароныч ничего этого Пете, конечно, никогда не рассказывал – в те ранние восьмидесятые годы, на Большой Дорогомиловской, во время перекуров, но иногда, конечно, глухо намекал, мол, разные бывали времена…
Но ведь наступали еще более трудные девяностые годы…
Ароныч к тому времени уже лет десять как вернулся к людям, в районную поликлинику, в трудовой коллектив. Правда, частную практику он тоже не бросал, но клиентов стало у него меньше, а почему меньше: частью люди уехали за границу, частью умерли, но еще кое-кто оставался.
Ароныч был старомоден, он ненавидел всю эту металлокерамику, разорительную и тяжелую, ты пойми, говорил он, я не знал, что доживу до такого: людям ставят эту гадость на верхнюю челюсть, предположим, да? – и она крошит им нижнюю, ставят, и знают, что так будет, и даже не говорят, ну это что за врачи, ну руки оторвать таким врачам! Кругом открывались стоматологические поликлиники, с сексапильными секретаршами, кожаными диванами, фикусами и канарейками, стоматологи прорастали в городе как грибы, их профессиональный уровень падал, а количество росло, в любом подъезде любой пятиэтажки ближе к центру теперь селился частный кабинет, с лицензией на протезирование и импланты, Ароныч был от всего этого, конечно, страшно далек, один имплант тысяча долларов, что это такое! – говорил он Пете, страшно тараща глаза, и Петя с трудом удерживал лицо, чтобы не засмеяться. И все же клиенты у Ароныча были, были, приходили родные до боли старушки, их племянники, племянницы, иногда он брал даже новых людей, ты пойми, говорил он Пете во время перерывов, когда они курили или обедали, чтоб ко мне попасть, вот в те годы, нужно было иметь рекомендацию. А сейчас что – это же ужас, приходит ко мне человек, здрасьте вам, и плюхается в кресло… Милый, но я же тебя не знаю, кто ты, что ты… Раньше знаешь как бывало, приходит к тебе человек и с ходу говорит – я хочу золотые коронки, сколько у вас стоит, мы таких посылали сразу, жестко, и даже дверь потом не открывали, знаешь почему?
Петя кивал. Он знал.
У Ароныча действительно был в жизни такой случай, когда одна женщина пришла и попросила ей сделать золотые коронки, а он отказал. Верней, сначала хотел отказать.
Женщину эту звали Елена Ивановна и работала она в физиотерапевтическом кабинете, в служебной поликлинике ВЦСПС на Ленинском проспекте. Ей было тридцать семь лет, шатенка, волосы чуть-чуть подкрашивала, а вот губы красила очень ярко, ходила на каблуках и иногда неожиданно смеялась.
Пришла она сама по себе, записалась по телефону, кто дал телефон, не сказала.
– А почему вы к своим врачам не пошли? – спросил Ароныч. – Я знаю вашу поликлинику, там у вас прекрасные врачи работают.
– Не пошла… – холодно ответила она и вдруг улыбнулась.
Когда она спросила про золотые коронки, Ароныч, конечно, похолодел.
Она сидела в кресле, широко открыв рот с прекрасными зубами.
Там действительно просматривались кое-какие проблемы, но зачем ставить золото, было неочевидно. Пришла она к нему году в семьдесят шестом, кажется.
– Извините, Елена Ивановна, а вы от кого? – спросил Ароныч, вынув инструменты изо рта.
– Ни от кого… – гордо сказала она. – Я сама по себе. Так что, сделаете?
– Ну, золото ваше… – лениво сказал Ароныч.
– А где его взять? – спросила она.
– Не знаю, – ответил он. – Это уж ваши проблемы. Приносите материал.
– А можно у вас купить? – спросила она, глядя ему в глаза.
И он неожиданно для себя кивнул.
Ночью опять не спалось, плита в темноте светилась, плыли в голове, вот именно что плыли, как в тумане, мысли: первые годы с женой Верой, когда дети были маленькие, потом Лариса, короткая связь, потом Елена Ивановна, он ее сначала принял то ли за стукача, то ли за следователя по особо важным делам, то ли за наводчицу высокого полета, взял телефончик рабочий, домашний, стал наводить справочки, был у него один пациент – работал в МУРе, капитан, тот все пробил, подтвердил, что да, работает там, на Ленинском проспекте, в поликлинике ВЦСПС, все нормально, от сердца немного отлегло, потом она еще приходила, садилась в кресло, шуршала колготками, фирменными, он все никак не мог привыкнуть, что не чулки капроновые, а колготки, по новой моде, синтетика все же, хотелось спросить, как носятся, какие ощущения, но было глупо, она по-прежнему неожиданно смеялась, хотя ей было иногда больно, потом, когда настала пора расплачиваться, он сказал, что за золото не возьмет, только за лечение.
Я не понимаю, растерянно сказала она, а что же мне делать, Михаил Аронович, а ничего не делайте, рассмеялся он, платите за лечение и свободны. Она стояла и прямо смотрела на него, ну что вы смотрите так пристально, улыбнулся он, я вас начинаю бояться, а я вас, сказала она, скажите, сколько я должна? – он назвал цифру за лечение, без золота, и тут же сказал, что страшно голоден, и тут есть шашлычная недалеко очень хорошая, а у вас как раз конец лечения, можно новые зубы обновить, такая традиция, впервые слышу, сухо сказала Елена Ивановна и попрощалась.
А вечером он ей позвонил.
Она говорила обиженно.
– Вы меня ставите в глупое положение, Михаил Аронович, – сказала она.
– Поймите, – сказал он как бы лениво, – я клиентам золота не продаю, такие правила, если со своим приходят, тогда да…
– А что же вы сразу не предупредили? Я бы другого врача нашла.
Она еще как бы не хотела понять, зачем он звонит.
– Давайте поужинаем, обсудим этот вопрос, – тихо сказал он, с колотящимся сердцем. – Я вас прошу.
Она засмеялась.
– О господи. И не стыдно?
– Нет, – просто сказал Ароныч. – Где встретимся?
Пригласил ее в «Берлин», там у него было знакомый метрдотель, вокруг сидели иностранцы, в основном финны.
Один финн нажрался, пригласил Елену Ивановну танцевать, она резко отказалась, финн стоял, весь красный как рак, обиженно что-то бубнил по-английски.
Когда они выходили, на Пушечную, он сказал ей, что есть билеты на Московский кинофестиваль.
– Смешной ты.
Однажды они всей компанией – он, Яша Либерман, Шамиль Мустафин, и Колька Лазарев, это было в сорок четвертом году, – решили зайти к Симе Каневскому, было холодно, хотя уже стоял апрель, но весна только-только начиналась, снег лежал тонкой грязной кромкой, прятался в тени, вся Марьина Роща состояла из развалюх, бараков, дровяных сараев, хибар, будок, клеток, двухэтажных шанхаев с мутными окнами, откуда густо пахло супом, снег прятался в этих углах, колючий, крапчатый снег, им стало холодно, и они зашли в знакомый дом по 2-му Вышеславцеву переулку. Позвонили в звонок, идея была погреться и заодно проведать товарища, Симу Каневского, идти все равно больше было некуда.