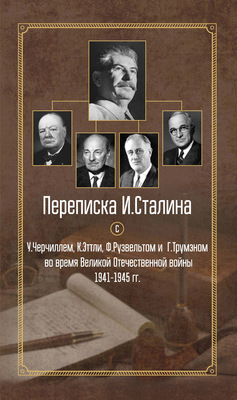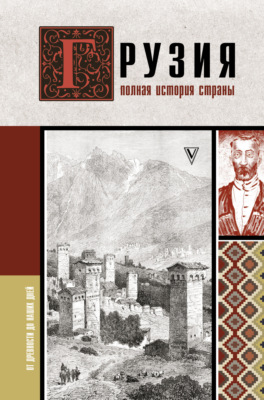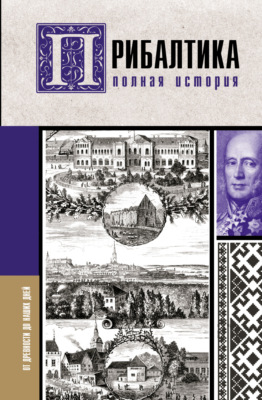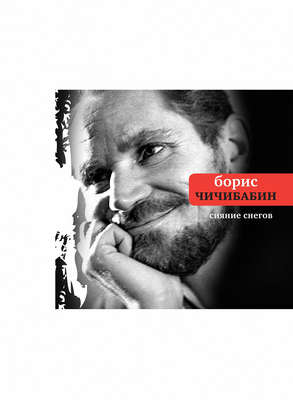Kitobni o'qish: «Прямая речь (сборник)»
Shrift:

1946–1950
«Кончусь, останусь жив ли…»
Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры —
тихие, не звенят…
Красные помидоры
кушайте без меня.
Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письмена…
Красные помидоры
кушайте без меня.
1946
Махорка
Меняю хлеб на горькую затяжку,
родимый дым приснился и запах.
И жить легко, и пропадать нетяжко
с курящейся цигаркою в зубах.
Я знал давно, задумчивый и зоркий,
что неспроста, простужен и сердит,
и в корешках, и в листиках махорки
мохнатый дьявол жмется и сидит.
А здесь, среди чахоточного быта,
где холод лют, а хижины мокры,
все искушенья жизни позабытой
для нас остались в пригоршне махры.
Горсть табаку, газетная полоска —
какое счастье проще и полней?
И вдруг во рту погаснет папироска,
и заскучает воля обо мне.
Один их тех, что «ну давай покурим»,
сболтнет, печаль надеждой осквернив,
что у ворот задумавшихся тюрем
нам остаются рады и верны.
А мне и так не жалко и не горько.
Я не хочу нечаянных порук.
Дымись дотла, душа моя махорка,
мой дорогой и ядовитый друг.
1946
Еврейскому народу
Был бы я моложе – не такая б жалость:
не на брачном ложе наша кровь смешалась.
Завтракал ты славой, ужинал бедою,
слезной и кровавой запивал водою.
«Славу запретите, отнимите кровлю», —
сказано при Тите пламенем и кровью.
Отлучилось семя от родного лона.
Помутилось племя ветхого Сиона.
Оборвались корни, облетели кроны, —
муки гетто, коль не казни да погромы.
Не с того ли Ротшильд, молодой и лютый,
лихо заворочал золотой валютой?
Застелила вьюга пеленою хрусткой
комиссаров Духа – цвет Коммуны Русской.
Ничего, что нету надо лбами нимбов, —
всех родней поэту те, кто здесь гоним был.
И не в худший день нам под стекло попала
Чаплина с Эйнштейном солнечная пара…
Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
не водись я с грустью золотой и горькой,
не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
не войди я навек частью безымянной
в русские трясины, в пажити и в реки, —
я б хотел быть сыном матери-еврейки.
1946
Смутное время
По деревням ходят деды,
просят медные гроши.
С полуночи лезут шведы,
с юга – шпыни да шиши.
А в колосьях преют зерна,
пахнет кладбищем земля.
Поросли травою черной
беспризорные поля.
На дорогах стынут трупы.
Пропадает богатырь.
В очарованные трубы
Трубит матушка Сибирь.
На Литве звенят гитары.
Тула точит топоры.
На Дону живут татары.
На Москве сидят воры.
Льнет к полячке русый рыцарь.
Захмелела голова.
На словах ты мастерица,
вот на деле какова?..
Не кричит ночами петел,
не румянится заря.
Человечий пышный пепел
гости возят за моря…
Знать, с великого похмелья
завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья,
то ли брачная постель.
То ли к завтрему, быть может,
воцарится новый тать…
И никто нам не поможет.
И не надо помогать.
1947
Битва
В ночном, горячем, спутанном лесу,
где хмурый хмель, смола и паутина,
вбирая в ноздри беглую красу,
летят самцы на брачный поединок.
И вот, чертя смертельные круги,
хрипя и пенясь чувственною бурей,
рога в рога ударятся враги,
и дрогнет мир, обрызган кровью бурой.
И будет битва, яростью равна,
шатать стволы, гореть в огромных ранах.
И будет ждать, покорная, она,
дрожа душой за одного из равных…
В поэзии, как в свадебном лесу,
но только тех, кто цельностью означен,
земные страсти весело несут
в большую жизнь – к паденьям и удачам.
Ну, вот и я сквозь заросли искусств
несусь по строфам шумным и росистым
на милый зов, на роковой искус —
с великолепным недругом сразиться.
1948
1951–1955
Родной язык
1
Дымом Севера овит,
не знаток я чуждых грамот.
То ли дело – в уши грянет
наш певучий алфавит.
В нем шептать лесным соблазнам,
терпким рекам рокотать.
Я свечусь, как благодать,
каждой буковкой обласкан
на родном языке.
У меня – такой уклон:
я на юге – россиянин,
а под северным сияньем
сразу делаюсь хохлом.
Но в отлучке или дома,
слышь, поют издалека
для меня, для дурака,
трубы, звезды и солома
на родном языке?
Чуть заре зарозоветь,
я, смеясь, с окошка свешусь
и вдохну земную свежесть —
расцветающий рассвет.
Люди, здравствуйте! И птицы!
И машины! И леса!
И заводов корпуса!
И заветные страницы
на родном языке.
2
Слаще снящихся музык,
гулче воздуха над лугом,
с детской зыбки был мне другом —
жизнь моя – родной язык.
Где мы с ним ни ночевали,
где ни перли напрямик!
Он к ушам моим приник
на горячем сеновале.
То смолист, а то медов,
то буян, то нежным самым
растекался по лесам он,
пел на тысячу ладов.
Звонкий дух земли родимой,
богатырь и балагур!
А солдатский перекур!
А уральская рябина!..
Не сычи и не картавь,
перекрикивай лавины,
о ветрами полевыми
опаленная гортань!..
Сторонюсь людей ученых,
мне простые по душе.
В нашем нижнем этаже —
общежитие девчонок.
Ох и бойкий же народ,
эти чертовы простушки!
Заведут свои частушки —
кожу дрожью продерет.
Я с душою захромавшей
рад до счастья подстеречь
их непуганую речь —
шепот солнышка с ромашкой.
Милый, дерзкий, как и встарь,
мой смеющийся, открытый,
розовеющий от прыти,
расцелованный словарь…
Походил я по России,
понаслышался чудес.
Это – с детства, это – здесь
песни душу мне пронзили.
Полный смеха и любви,
поработав до устатку,
ставлю вольную палатку,
спорю с добрыми людьми.
Так живу, веселый путник,
простодушный ветеран,
и со мной по вечерам
говорят Толстой и Пушкин
на родном языке.
1951
Дождик
День за днем жара такая все —
задыхайся и казнись.
Я и ждать уже закаялся.
Вдруг откуда ни возьмись
с неба сахарными каплями
брызнул, добрый на почин,
на неполитые яблони,
огороды и бахчи.
Разошлась погодка знатная,
спохмела тряхнув мошной,
и заладил суток на двое
теплый, дробный, обложной.
Словно кто его просеивал
и отрушивал с решет.
Наблюдать во всей красе его
было людям хорошо.
Стали дали все позатканы,
и, от счастья просияв,
каждый видел: над посадками —
светлых капель кисея.
Не нарадуюсь на дождик.
Капай, лейся, бормочи!
Хочешь – пей его с ладошек,
хочешь – голову мочи.
Миллион прозрачных радуг,
хмурый праздник озарив,
расцветает между грядок
и пускает пузыри.
Нивы, пастбища, леса ли
стали рады, что мокры,
в теплых лужах заплясали
скоморохи-комары.
Лепестки раскрыло сердце,
вышло солнце на лужок —
и поет, как в дальнем детстве,
милой родины рожок.
1954
«И нам, мечтателям, дано…»
И нам, мечтателям, дано,
на склоне лет в иное канув,
перебродившее вино
тянуть из солнечных стаканов,
в объятьях дружеских стихий
служить мечте неугасимой,
ценить старинные стихи
и нянчить собственного сына.
И над росистою травой,
между редисок и фасолей,
звенеть прозрачною строфой,
наивной, мудрой и веселой.
1952
Яблоня
Чем ты пахнешь, яблоня —
золотые волосы?
Дождевыми каплями,
тишиною по лесу,
снегом нерастаянным,
чем-то милым сызмала,
дорогим, нечаянным,
так, что сердце стиснуло,
небесами осени,
тополями в рубище,
теплыми колосьями
на ладони любящей.
1954

1957–1960
«Уже картошка выкопана…»
Уже картошка выкопана,
и, чуда не суля,
в холодных зорях выкупана
промокшая земля.
Шуршит тропинка плюшевая:
весь сад от листьев рыж.
А ветер, гнезда струшивая,
скрежещет жестью крыш.
Крепки под утро заморозки,
под вечер сух снежок.
Зато глаза мои резки
и дышится свежо.
И тишина, и ясность…
Ну, словом, чем не рай?
Кому-нибудь и я снюсь
в такие вечера.
1957
Клянусь на знамени веселом
Однако радоваться рано —
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет, – а я-то знаю:
не умер Сталин.
Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север, —
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться, —
не умер Сталин.
Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик, —
не умер Сталин.
И не по старой ли привычке
невежды стали наготове —
навешать всяческие лычки
на свежее и молодое?
У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков, —
не умер Сталин.
А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?
Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадье не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!
1959
«До гроба страсти не избуду…»
До гроба страсти не избуду.
В края чужие не поеду.
Я не был сроду и не буду,
каким пристало быть поэту.
Не в игрищах литературных,
не на пирах, не в дачных рощах —
мой дух возращивался в тюрьмах
этапных, следственных и прочих.
И все-таки я был поэтом.
Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.
На брюхе ползал по-пластунски
солдатом части минометной.
И в мире не было простушки
в меня влюбиться мимолетно.
И все-таки я был поэтом.
Мне жизнь дарила жар и кашель,
а чаще сам я был не шелков,
когда давился пшенной кашей
или махал пустой кошелкой.
Поэты прославляли вольность,
а я с неволей не расстанусь,
а у меня вылазит волос
и пять зубов во рту осталось.
И все-таки я был поэтом,
И все-таки я есмь поэт…
Влюбленный в черные деревья
да в свет восторгов незаконных,
я не внушал к себе доверья
издателей и незнакомок.
Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.
И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю как поэт.
1960
«Поэт – что малое дитя…»
Поэт – что малое дитя.
Он верит женщинам и соснам,
и стих, написанный шутя,
как жизнь, священ и неосознан.
То громыхает, как пророк,
а то дурачится, как клоун.
Бог весть, зачем и для кого он,
пойдет ли будущему впрок.
Как сон, от быта отрешен,
и кто прочтет и чем навеян?
У древней тайны вдохновенья
напрасно спрашивать резон.
Но перед тем как сесть за стол
и прежде чем стихам начаться,
я твердо ведаю, за что
меня не жалует начальство.
Я б не сложил и пары слов,
когда б судьбы мирской горнило
моих висков не опалило,
души моей не потрясло.
1960
1961–1965
«Когда весь жар, весь холод был изведан…»
Когда весь жар, весь холод был изведан,
и я не ждал, не помнил ничего,
лишь ты одна коснулась звонким светом
моих дорог и мрака моего.
В чужой огонь шагнула без опаски
и принесла мне пряные дары.
С тех пор иду за песнями запястий,
где все слова значимы и добры.
Моей пустыни холод соловьиный,
и вечный жар обветренных могил,
и небо пусть опустятся с повинной
к твоим ногам, прохладным и нагим.
Побудь еще раз в россыпи сирени,
чтоб темный луч упал на сарафан,
и чтоб глаза от радости сырели,
и шмель звенел, и хмель озоровал.
На свете нет весны неизносимой:
в палящий зной поляжет, порыжев,
умрут стихи, осыплются осины,
а мы с тобой навеки в барыше.
Кто, как не ты, тоску мою утешит,
когда, листву мешая и шумя,
щемящий ветер борозды расчешет
и затрещит роса, как чешуя?
Я не замерзну в холоде декабрьском
и не состарюсь в темном терему,
всем гулом сердца, всем моим дикарством
влюбленно верен свету твоему.
1961
Белые кувшинки
Что за беда, что ты продрог и вымок?
Средь мошкары, лягушечьих ужимок
протри глаза и в прелести омой,
нет ничего прекраснее кувшинок,
плавучих, белых, блещущих кувшинок.
Они – как символ лирики самой.
Свежи, чисты, застенчиво-волшебны,
для всех, кто любит, чашами стоят.
А там, на дне, – не думали уже б мы, —
там смрадный мрак, пиявок черных яд.
На душном дне рождается краса их
для всех, а не для избранных натур.
Как ждет всю жизнь поэзию прозаик,
кувшинки ждут, вкушая темноту.
О, как горюют, царственные цацы,
как ужас им дыханье заволок,
в какой тоске сподыспода стучатся
стеблями рук в стеклянный потолок!
Из черноты, пузырчатой и вязкой,
из тьмы и тины, женственно-белы,
восходят ввысь над холодом и ряской.
И звезды пьют из белой пиалы.
1961
Крымские прогулки
Колонизаторам – крышка!
Что языки чесать?
Перед землею крымской
совесть моя чиста.
Крупные виноградины…
Дует с вершин свежо.
Я никого не грабил.
Я ничего не жег.
Плевать я хотел на тебя, Ливадия,
и в памяти плебейской
не станет вырисовываться
дворцами с арабесками
Алупка воронцовская.
Дубовое вино я
тянул и помнил долго.
А более иное
мне памятно и дорого.
Волны мой след кропили,
плечи царапал лес.
Улочками кривыми
в горы дышал и лез.
Думал о Крыме: чей ты,
кровью чужой разбавленный?
Чьи у тебя мечети,
прозвища и развалины?
Проверить хотелось версийки
приехавшему с Руси:
чей виноград и персики
в этих краях росли?
Люди на пляж, я – с пляжа,
там, у лесов и скал,
«Где же татары?» – спрашивал,
все я татар искал.
Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы, – кричал, – татары?»
Нет никаких татар.
А жили же вот тут они
с оскоминой о Мекке.
Цвели деревья тутовые,
и козочки мекали.
Не русская Ривьера,
а древняя Орда
жила, в Аллаха верила,
лепила города.
Кому-то, знать, мешая
зарей во всю щеку,
была сестра меньшая
Казани и Баку.
Конюхи и кулинары,
радуясь синеве,
песнями пеленали
дочек и сыновей.
Их нищета назойливо
наши глаза мозолила.
Был и очаг, и зелень,
и для ночлега кров…
Слезы глаза разъели им,
выстыла в жилах кровь.
Это не при Иване,
это не при Петре:
сами, небось, припевали:
«Нет никого мудрей».
Стало их горе солоно.
Брали их целыми селами,
сколько в вагон поместится.
Шел эшелон по месяцу.
Девочки там зачахли,
ни очага, ни сакли.
Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена, —
и на земле татарской
ни одного татарина.
Живы, поди, не все они:
мало ль у смерти жатв?
Где-то на сивом Севере
косточки их лежат.
Кто помирай, кто вешайся,
кто с камнем на конвой, —
в музеях краеведческих
не вспомнят никого.
Сидит начальство важное:
«Дай, – думает, – повру-ка».
Вся жизнь брехнею связана,
как круговой порукой.
Теперь, хоть и обмолвитесь,
хоть правду кто и вымолви, —
чему поверит молодость?
Все верные повымерли.
Чепухи не порите-ка.
Мы ведь все одноглавые.
У меня – не политика.
У меня – этнография.
На ладони прохукав,
спотыкаясь, где шел,
это в здешних прогулках
я такое нашел.
Мы все привыкли к страшному,
на сковородках жариться.
У нас не надо спрашивать
ни доброты ни жалости.
Умершим – не подняться,
не добудиться у́мерших…
но чтоб целую нацию —
это ж надо додуматься…
А монументы Сталина,
что гнул под ними спину ты,
как стали раз поставлены,
так и стоят нескинуты.
А новые крадутся,
честь растеряв,
к власти и к радости
через тела.
А вражьи уши радуя,
чтоб было что писать,
врет без запинки радио,
тщательно врет печать.
Когда ж ты родишься,
в огне трепеща,
новый Радищев —
гнев и печаль?
1961
Bepul matn qismi tugad.
11 455,63 s`om
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
16+Litresda chiqarilgan sana:
17 mart 2016Yozilgan sana:
2008Hajm:
77 Sahifa 12 illyustratsiayalarMualliflik huquqi egasi:
OMIKO