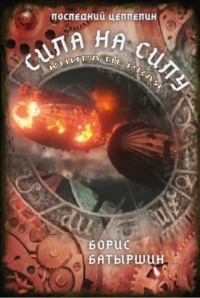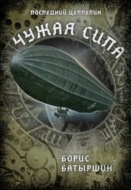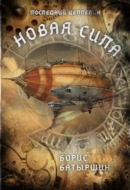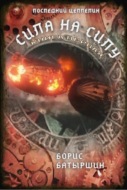Kitobni o'qish: «Сила на силу. Книга 1»

Пролог
«Дэйли Телеграф»,
…января 1918 г.
«Германские цеппелины снова над Лондоном?
А нас-то уверяли, что Королевский Лётный Корпус навсегда отвел от нашего любимого острова угрозу варварских ночных налётов! Говорили, что Империя располагает самой многочисленной и наилучшим образом управляемой военной авиацией в мире, клялись, что рейд эскадры из шести цеппелинов, предпринятого в декабре прошлого, 1917-го года, когда был сбит воздушный корабль, на борту которого находился главный воздухоплаватель Германии капитан Петер Штрассер – это последняя авантюра тевтонов, близкая к отчаянию, и ни на что подобное они больше не решатся?
Что ж, вчера мы, как и прочие лондонцы, имели возможность оценить, наблюдать, чего стоят заверения наших военных, даже если они даются в стенах Вестминстерского дворца! Германский – а чей же, позвольте спросить, ещё? – цеппелин появился над столицей посреди бела дня, на огромной высоте.
По внезапно возникшему ниоткуда воздушному судну было произведено до полусотни выстрелов из зенитных орудий, к сожалению, не причинившие тому никаких видимых повреждений. Поднятые на перехват четыре „Сопвича“ назад не вернулись (в буквальном смысле – нашим репортёрам удалось выяснить, что аэропланы не садились на своём (или каком-то ещё) аэродроме, никто не видел их падения, а обломки до сих пор ищут. По непонятным причинам тевтоны не стали бомбить Лондон, а удалились в сторону Дувра, где и были замечены спустя некоторое время.
Все до одного наблюдатели отмечают необычайно высокую скорость, с которой перемещалось германское воздушное судно, лёгкость, с которой оно набирало высоту, а так же вызывающую, нетипичную окраску – ярко-алую, благодаря чему он и был замечен всеми без исключения, жителями Лондона.
Мы обратились за разъяснениями к нескольким отставным военным, признанным знатокам войны в воздухе; они, хоть и пожелали остаться неназванными, тем не менее, выразили все уверенность, что мы стали свидетелями разведывательного полёта, совершённого цеппелином принципиально новой конструкции. Появление этого типа летательных аппаратов легче воздуха увы, проспала наша славная разведка. И теперь мы вместе с остальными верноподданными короны вправе задать вопрос: ждать ли нам в ближайшем будущем возобновления кошмара ночных налётов, от которых, судя по событиям дня вчерашнего, не будет никакой защиты?»
«Жиль, дружище! С тяжким сердцем сообщаю тебе, что наш друг и боевой товарищ, командир Четвёртой Бомбардировочной авиагруппы майор Пьер Роккар погиб сегодня в налёте на германскую тяжёлую батарею близ городка Сен-Дье-де-Вож, что в Вогезах. Городок сам по себе ничтожный: к тому же за три года войны от него мало что осталось. Однако начальству, как всегда, виднее, и зимним утром бедняга Пьер поднял в воздух наши „Сопвичи“. Ты, вероятно, в курсе, что мы получили эти двухместные птички недавно, и уж точно куда позже, чем хотелось бы. Начальство тянуло с ними почти полгода, а когда всё-таки расщедрилась, то выяснилось, что эти машины, хоть и изготовлены в la Belle France по британским образцам, а всё же изрядно не дотягивают до своих островных прототипов. Но нам выбирать не приходится – и не такому обрадуешься, пролетам три года на таком хламе, как „Вуазен“…
Надо отметить, что парни из шестьдесят пятой истребительной эскадрильи на своих „Кодронах“ хорошенько расчистили нам путь (правда, и сами потеряли при этом двух отличных пилотов) – а потому особого противодействия истребителей мы не ожидали. Оставалась, правда, возможность нарваться на огонь заградительный противоаэропланных пушек, прикрывающих батарею – но это уж неизбежное зло при проведении такого рода операций.
Спросишь, почему нас послали на задание днём, а не ночью? Ночью мы уже летали, и даже не один раз, но чёртовы боши так хорошо замаскировали свои десятисантиметровые мортиры, что их и днём-то не очень отыщешь – что уж говорить о зимней ночи, когда на горные перевалы (за таким батарея как раз и пряталась) опускается туман? Только топливо зря пожжёшь, да бомбы раскидаешь, хотя с тех пор, как в войну вступили, наконец, американцы, и того и другого у нас хватает.
Но я отвлёкся – нам, старым ворчунам, только дай побрюзжать, недаром на борту моего „Сопвича“ нарисована медвежья шапка наполеоновского гренадера. В общем, взлетели мы, имея под плоскостями по сто пятьдесят килограммов бомб. А что? Расстояние небольшое, воздушных схваток на подлёте не ожидается, эскапад со штурмовками на бреющем тоже – отчего бы не взять лишние полсотни килограммов подарочков для бошей? И как ведь хорошо всё шло: Сен-Дье-де-Вож прошли на высоте полторы тысячи метров, воздух чист, спасибо сорвиголовам из шестьдесят пятой, видимость – насколько глаз хватает, что зимой случается, прямо скажем, не каждый день…
Я увидел его издали – крошечное красное пятнышко, идущее пересекающимся курсом метров на тысячу выше. Ты, полагаю, можешь догадаться, о чём я подумал: кто-то из „воздушного цирка“ печально известного барона Рихтгофена, невесть откуда взявшегося на нашем участке фронта (ещё вчера о чём-то подобном ни слуху, ни духу, а ты знаешь, как быстро разносятся подобные сведения!). В общем, я стал махать шлемом, пытаясь обратить внимание наших на неожиданную угрозу – и махал, пока не сообразил, что что-то тут не так.
Во-первых, пятнышко было одно, а эти, из Jagdgeschwader-I, как известно, меньше, чем эскадрильей обычно не отправляются на вылет. Во-вторых, оно быстро росло, приближалось – и уже очень скоро стало ясно, что никакой это не истребитель, а дирижабль очень необычной, можно сказать, невиданной конструкции. Честное слово, лучше бы оказался истребитель – хотя бы и самого Рихтгофена!
Прежде всего, эта штука, оказалась здоровенной – может, и поменьше германских цеппелинов, но уж точно не уступающая размерами самому крупному из наблюдательных аэростатов или, скажем, британских „блимпов“. Ну, знаешь, тех, двухместных, у которых вместо гондолы висит фюзеляж от самолёта с мотором? Только этот не был похож ни на блимп, ни на привязной баллон – скорее, на несуразно огромного жука-плывунца, только не черного, с металлическим отливом, какими они бывают в природе, а ярко-алого цвета. Какое-то время он шёл прямо на меня, и я обратил внимание что „анфас“ эта штука тоже как плывунец – формой напоминает двояковыпуклую линзу, и даже, вроде, лапки-вёсла имеются, с чем-то похожим на полупрозрачные красные перепонки. Не подумай, Жиль, я не был пьян! Перед полётом – ни-ни (вот потом, дело другое, а как же!), и если эта штука мне померещилась, то вместе с десятком других парней из нашей эскадрильи, которые вместе со мной рассматривали приближающуюся каракатицу, не очень-то веря своим глазам.
Потому, наверное, мы не сразу начали стрелять – а когда начали, было уже поздно. То „плывунца“ оставалось метров сто, и майор Роккар, очнувшийся, как и полагается, командиру, первым, развернул свой „Сопвич“ в его сторону, намереваясь открыть огонь из синхронных пулемётов. Его манёвр повторил де Санлис – помнишь, улыбчивый такой, родом из Орлеана? Остальные продолжали лететь по прямой, как и было договорено в случае появления неприятельских истребителей: Роккар со своим ведомым поворачивает навстречу неприятелю, чтобы помешать их атаке, остальные же смыкают строй и все вместе отбиваются из шкворневых пулемётов. Помню, меня поразило, с какой скоростью летит эта алая штука – ненамного медленнее нас, а ведь это, по всем признакам, дирижабль, а не самолёт!
Роккар начал стрелять метров со ста, и „плывунец“, получив словив в свою красную морду несколько точных (а кто бы, скажи на милость, промазал по такой громадине?) очередей, отвернул. Но этот манёвр он проделал слишком шустро для аппарата легче воздуха – а напоследок плюнул навстречу Роккару и Санлису струёй какой-то не то пыли, не то газа. Я боковым зрением заметил, что оба „Сопвича“, пытаясь увернуться от этого „выстрела“ кинулись в разные стороны, но не успели, зацепили кровавое облачко – Санлис плоскостью, а майор влетел в него целиком.
Честно говоря, я не очень-то за него испугался – решил, что это какой-то ядовитый газ, ну а в воздухе, на большой скорости это не слишком-то опасно, особенно когда сидишь позади перемалывающего воздух пропеллера. И не поверил своим глазам, когда увидел, что „Сопвич“ Роккара, устремился к земле – и не просто так устремился, он словно истаивал в падении этим самым кроваво-красным то ли газом, то ли пылью. Высота, как я уже писал, у нас была приличная, около двух километров – и, честное слово, не вру, Жиль, он так и не долетел до земли, растаял в воздухе подобно комете, которые, как уверяют астрономы, истаивают, оказавшись поблизости от солнца, превращаясь в собственные газовые хвосты!
Я забыл и о пулемёте, и о „плывунце“, а когда оторвал, наконец, взгляд от алого пятна над самой землёй, что осталось от самолёта и двух живых людей – он был уже далеко. „Сопвич“ Санлиса к моему удивлению летел, и довольно ровно – но за его правой плоскостью тянулся всё тот же кровавый шлейф, разве что пожиже, да и сами крылья истаивали на глазах. Помню, я подумал, что будет, когда страшное „нечто“, пожирающее аппарат на лету, доберётся до фюзеляжа и пилотов – но нет, машина раньше потеряла управление, опрокинулась и закувыркалась вниз, разбившись несколькими секундами позже посреди какого-то выгона.
Батарею мы разбомбили, – и можешь себе представить, Жиль, какими глазами глядели на нас те, кому мы пересказывали эту жуткую историю. Я лично проделал это всего один раз, а потом зарёкся – так ведь и в дом скорби недолго угодить, а меня туда совсем не тянет…
А кроваво-красный плывунец снится мне с тех пор каждую ночь. Он – и алый шлейф, тянущийся за самолётом нашего с тобой друга и командира майора Роккара. Хвала Святой Деве, что у него не было ни жены, ни детей, ни родителей – и мне на правах его преемника не придётся описывать его жуткую гибель. Ты ведь знаешь меня, жиль, солгать в таком письме я не смогу – лучше уж, и правда, в бедлам…»
… января 1918, Эльзас, Бувельёр.
Приписка:
«Мой капитан! Ставлю вас в известность, что ваш друг и сослуживец капитан Анри де Россиньяк вчера… января 1918 покончил с собой, выстрелив себе в висок. Согласно заключению старшего медика при штабе 4-й Бомбардировочной авиагруппы, капитан де Россиньяк уже несколько дней находился в состоянии умоисступления. С уважением, су-лейтенант Поль Макрон, адъютант 4-й Бомбардировочной авиагруппы.»
Часть первая
Тусклый Шар

I
Константинополь,
…января 1918 г.
Совершенно секретно.
Оперативный приказ
на крейсерско-набеговый выход из Дарданелл
Намерение: истребление английских дозорных сил, развёрнутых перед Дарданеллами.
Сведения о неприятеле: В последние несколько дней близ островов Имброс и Тенедос обнаружены дозорные силы неприятеля. В их составе: лёгкий крейсер типа «Джуно», два малых монитора «тип В» и «тип D»), не менее трёх эсминцев, дозорных и посыльных малых судов. Поблизости так же замечено скопление рыболовных пароходов и транспортных судов различного класса.
Крупные боевые корабли на якорных стоянках в бухте Кузу, на южной оконечности Имброса, и у северного берега Тенедоса. Один дозорный эсминец крейсирует между островами Мавро и южным побережьем острова Имброс, второй – к северу от бухты Кузу. Замечены сторожевые корабли возле сетевых бонов, выставленных между бухтами Кузу и Сувла; в бухте Кефало отмечены транспорты.
Воздушная разведка, произведённая 8 сентября обнаружила в бухте Мудрос:
Английские корабли – 2 линейных корабля типов «Кинг Джордж» и «Кинг Эдуард»; 1 крейсер типа «Саффолк», 1 крейсер типа «Наталь», 2 эскадренных миноносца, 1 монитор;
Французские – 1 броненосный крейсер типа «Глуар», 1 плавучий госпиталь, 11 пароходов, 30 малых судов.
Наши вспомогательные морские силы: Подводная лодка UB-66 на пути в Дарданеллы и получила приказание зайти на пост Херзингштанд. UC-23 должна поставить у Мудроса мины и 20 и 21 января занять позицию у Мудросской бухты.
Выполнение:
а) Линейный крейсер «Явуз Султан Селим» («Гебен») и лёгкий крейсер «Мидилли» («Бреслау») 20 января в 3 ч 30 мин. должны находиться у Нагары. При проходе мимо Чанака на крейсера будут переданы последние сведения. Время прохода через Дарданеллы должен быть выбрано так, чтобы к рассвету крейсера оказались на исходной позиции.
б) Эскадренные миноносцы следуют за «Мидилли» до бухты Морто и образуют у входа в Дарданеллы противолодочный патруль. Они же охраняют возвращающиеся корабли от атак субмарин.
в) Гидропланы оберегают корабли от ударов с воздуха.
г) Дарданнельская крепость приводится в полную боевую готовность.
5. Возвращение всех морских сил: не позднее захода солнца.
6. Радиосвязь и сигнализация до открытия огня разрешаются только в крайнем случае (инструкция пользования радиосвязью – смотри приложение I к данному оперативному приказу).
7. В случае тумана в Дарданеллах операция откладывается. Cмотри приложение II к данному оперативному приказу).
Подпись
Контр-адмиралХуберт фон Ребейр-Пашвиц
Из воспоминаний коммандера Хиггинса,
третьего баронета Гарвика.
В 1917-18 гг. командира
HMS «Лизард»
«…в 7.20 утра мы огибали огибал мыс Кефало, оставив по правому борту дрифтер, медленно ползущий вдоль линии сетевых бонов. За мысом знакомо открылась морская гладь, обычно пустая и спокойная. „Лизард“ находился возле Имброса и Тенедоса более двух месяцев, и взгляды наши успели вполне привыкнуть к особенностям местного морского пейзажа: чередования береговых линий и открытых пространств, разделяющих острова, но сейчас её вспарывал острым форштевнем германский лёгкий крейсер „Бреслау“, идущий прямо на нас! На миг я не поверил собственным глазам, но тут крейсер отвернул на два румба к осту, и мне стало видно полотнище османского флага, развивающееся у него на корме, и следующий мателотом, в миле за его кормой, длинный, приземистый „Гебен“, чудовищно огромный в сравнении со своим спутником. Невероятное, то во что никто из нас не хотел верить, свершилось!
Застучали створки фонаря Ратьера, передавая тревожное сообщение мониторам «Раглан» и М-28 – оба стояли на якорях в бухте Кусу, противник был скрыт от них скалистым окончанием мыса, и команды, не зная о нависшей над ними смертельной угрозе, предавались воскресному отдыху. В эфир полетел сигнал «Особо срочно. Вижу 'Гебен' и 'Бреслау'». Я машинально отметил в судовом журнале время передачи – 17.35. Радист доложил, что неприятель препятствует передаче работой своих радиостанций, и нам оставалось лишь надеяться, что на «Лорде Нельсоне» примут наш отчаянный призыв – как и переданные несколькими минутами спустя сведения о курсе и скорости германских боевых кораблей.
Эсминец тем временем оживал, изготавливаясь к неравной схватке. По трапам застучали каблуки матросов, торопящихся занять места на боевых постах, залязгали броневые двери, масляно зачавкали замки орудий, проглатывая снаряды из кранцев первых выстрелов. Корпус задрожал каждой своей заклёпкой на «фулл спиде» – «Лизард набирал скорость, и я скомандовал полтора румба влево, ясно понимая, что сейчас произойдёт. И не ошибся: вдоль бортов неприятельских кораблей пробежали огоньки, и тут же снаряды „Бреслау“, глухо проревев над нашим мостиком, подняли столбы воды позади „Лизарда“. Перелёт не больше полутора кабельтовых и накрытие по направлению – недаром все говорят, что германские комендоры знают своё дело, увы, куда лучше своих коллег из Королевского Флота!
Сигнальщик отрапортовал о сигналах, переданных фонарями Ратьера с мониторов – там после паузы, показавшейся мне бесконечной, обратили-таки внимание на накатывающийся из-за мыса вражеский ордер и теперь готовились к бою. У меня отлегло от сердца; к тому же я вспомнил инструкции, полученные от командира отряда эсминцев, коммодора лорда Уиллоуби: «при встрече с превосходящими силами противника не подставляться без крайней необходимости под артиллерийский огонь, а поддерживать контакт с неприятельскими силами, сообщая об их передвижениях. Решив, что немцы намерены под прикрытием берега прорваться к норду, я так же скомандовал довернуть на два румба и дать полный ход, чтобы оказаться впереди и поддерживать контакт. Когда нос „Лизарда“ покатился вправо, я скомандовал радисту передать на „Лорд Нельсон“: „8.10: 'Гебен' и 'Бреслау', курс северо-запад, скорость 20 узлов“.
Залпы „Бреслау“ тем временем стали ложиться в неприятной близости от нашего борта. Один из пенных столбов, поднятых совсем уж близким падением, окатил расчёт кормового орудия ледяным душем и я, чтобы занять чем-то людей, приказал старшему офицеру отвечать на огонь. Я отдавал, разумеется, себе отчёт, что иной пользы от этого не будет – прицелы наших орудий были рассчитаны всего на семь тысяч ярдов, тогда как дистанция до противника составляла не менее шести миль. Эсминец тем временем завершил поворот, и я с облегчением отметил, что снаряды германского крейсера ложатся у нас за кормой – мы сумели выскочить из смертоносных накрытий! Дабы затруднить вражеским комендорам наведение орудий, я отдал приказ двигаться зигзагом, всякий раз поворачивая к месту падения снарядов предыдущего залпа. Теперь, если не случится какой-нибудь несчастной случайности, мы могли чувствовать себя в некоторой безопасности, что немедленно сказалось на настроении людей – на лицах, минуту назад тревожных, заиграли улыбки, понеслись солёные шуточки по поводу „мазил бошей“. Суб-лейтенант Ридженс, отвечающий за наши торпедные аппараты, до того воодушевился, что предложил немедленно повернуть, чтобы занять позицию для торпедного залпа. Однако я, предвидя, что схватка может затянуться на много часов, и нам придётся преследовать неприятеля в темноте (в январе она наступает здесь около четырёх часов пополудни) решил поберечь драгоценные торпеды для вполне возможного ночного боя…»
Теллус, Загорье.
В Заброшенном Городе
…сияние, расползлось неровным лиловым пузырём – и в его глубине проявился, словно на экране волшебного фонаря, город, видимый с высоты птичьего полёта. Его разделяла надвое река, вся в скорлупках судов; над бесчисленными крышами вились дымки, сливаясь в сплошную пелену. Через реку перекинуто множество мостов, и самый заметный среди них – высокий, с двухъярусным пролётом между двумя квадратными островерхими башенками. А на берегу высилось массивное, сплошь в каменном кружеве, здание, тоже увенчанное двумя башнями: одна с четырьмя остроконечными шпилями, другая с огромным часовым циферблатом.
Оглушительно треснуло, словно в мета-газовом мешке проскочил гальванический разряд, в ноздри ударил резкий, свежий, как после грозы запах, мириады электрических мурашей пробежались по всему телу, когтя кожу. Лиловый пузырь гулко схлопнулся, унося с собой и видение города и корабль къяррэ…
Алекс помотал головой, отгоняя воспоминание прочь. То, что происходит сейчас, чрезвычайно напоминает недавние события – только стоят они не во внутреннем дворике древнего города инри, а в подземной зале. Он сам, профессор Смольский и фон Зеггерс – коренастый, со сложенными на груди руками, в неизменной пилотской кожанке и с кобурой на поясе. Четвёртый сидит на четвереньках – это магистр Фламберг, колдующий над своей орбиталью. И пузырь посреди зала в точности такой, как в тот раз, разве что, поменьше…
Изображение в пузыре было необыкновенно чётким, – создавалось впечатление, что это никакой, а странное сферическое окно, открывшееся в иной мир. И это окно колышется, отзываясь на металлические щелчки лимбов орбитали, пульсацию клубка разноцветных лент в её сердцевине. Фламберг чуть подправил бронзовый ползунок на внешнем лимбе – картинка в пузыре на миг подёрнулась дымкой, но почти сразу вернулась к первоначальной чёткости – и удовлетворённо потёр руки.
– Готово, герр профессор! Теперь мы сможем наблюдать за кораблём къяррэ, куда бы он ни направился.
– А почему самого корабля къяррэ не видно? – спросил фон Зеггерс.
– Приборы настроены таким образом, что мы видим происходящее как бы с его борта.
– Поверить не могу… как вы сумели этого добиться, коллега? – профессор Смольский не скрывал восхищения.
– Я ведь говорил вам, герр профессор, что къяррэ побросали в здешних подземельях уйму полезных приспособлений. – ответил Фламберг, и немцу нам миг показалось, что в голосе магистра промелькнула едва заметная снисходительная нотка. – Уж не знаю, почему они не заинтересовались этими сокровищами – видимо, как я и говорил, их интересовало не столько наследие строителей древнего города, сколько скрытый глубоко под холмом, где он стоит, мощнейший природный концентратор ТриЭс. Позволю себе напомнить, что нечто подобное предполагал ещё инрийский учёный К'Нарр, мой бывший наставник в Имперском Гросс-Ложе. Как вы знаете, недавно я встретил его. Это было, когда мы оказались в плену, на борту инрийского «облачника» – тогда-то К'Нарр и поделился со мной своими соображениями. А я, в свою очередь, получив в руки и эти артефакты, и доступ к таинственному концентратору ТриЭс, сумел правильно ими распорядиться.
– Но всё равно – настолько точно настроить незнакомые, в сущности, вам устройства для того, чтобы следить за къяррэ, перемещающимися в другом мире! – профессор покачал головой. – Как хотите, коллега я не могу уложить это в голове. Воображение отказывает…
– Мне – всем нам, если уж на то пошло, – исключительно повезло, профессор. В момент, когда корабль къяррэ открыл межмировой портал, чтобы уйти на ту сторону…
– Бежать, вы хотели сказать. – заявил фон Зеггерс. – Чёртовы твари, кем бы они ни были на самом деле, поняли, что ещё немного, и мы сотрём их в порошок – вот и дали дёру!
– Что ж, возможно и так. – Фламберг покосился на бравого воздухоплавателя с нескрываемым неудовольствием. Хотя я склонен полагать, что им вовсе не было дела до нападения. Къяррэ послали отражать его свои служебные устройства – тех самых алых «амёб», которых вы изничтожили, расчищая дорогу в город, – а сами занимались подготовкой к открытию портала1. И то, что мы оказались этому свидетелями – не более чем счастливое совпадение. Счастливое для нас, разумеется, – пояснил он, увидав недоумённую гримасу фон Зеггерса. – Ведь не случись его, я бы не смог сохранить в орбитали отпечаток корабля къяррэ, и мы были бы лишены этой возможности.
И он указал на картинку в пузыре.
– Я не понимаю, куда несёт этих къяррэ. – буркнул воздухоплаватель. – Вышли из своего портала над Лондоном, потом пересекли через Ла-Манш и двинулись через всю Европу, – и не абы как, а следуя почти в точности линии западного Фронта!
– Я слабо разбираюсь в географии Отчего Мира, как у нас называют называют Землю, откуда родом наши предки. – ответил Фламберг. – И уж точно не имею представления о войне, которая по вашим словам там идёт. Могу лишь догадываться, что къяррэ, слабо знакомые с тем, как люди вообще ведут военные действия, попросту не понимают, что там происходит.
– А на юг их с чего понесло?
– В нашем мире къяррэ обитают где-то в южном полушарии, далеко за экватором. Предположительно, во всяком случае, точных сведений у нас, как вы понимаете, нет. Может, они попросту следуют привычке, своего рода инстинкту своей расы?
– А нападения на самолёты по дороге – зачем это понадобилось?
– Военные самолёты, вообще летательные аппараты – это нечто им понятное, в отличие от того, что творится внизу, на поверхности. Возможно, атака имела целью определить, на что те способны?
– На зуб, значит, решили попробовать? – ухмыльнулся фон Зеггерс. – А корабли-то им на что тогда? Надо было тащиться сначала через континент, потом через всю Адриатику к Дарданеллам – чтобы вцепиться в какие-то посудины?
– Они ведь тоже военные, не так ли? – ответил вопросом на вопрос Фламберг. – Къяррэ знают, что и мы люди и инри, прямые соперники их собственной расы, воюют на поверхности моря, так что подобные события им вполне понятны. Считайте – решили, по вашему меткому выражению, «попробовать на зуб» и корабли тоже!
– Что ж, пусть попробуют… – пробурчал фон Зеггерс, приближая лицо к пузырю. – Это им не десяток французских этажерок, а крейсера Кайзерлихмарине, закованные в крупповскую броню, с лучшими в мире орудиями на борту! Зубы обломают, медузы летучие…
Германский воздухоплаватель всматривался в картинку: морская поверхность, испещрённая ярко-белыми барашками, и по ней скользят, растягивая за собой длинные пенные «усы» корабли. Впереди маленький, узкий, покрытый серо-белыми изломанными полосами; следом, параллельным курсом, на значительном отдалении, который опытный глаз воздухоплавателя определил в пять-пять с половиной миль – ещё два. Передний, довольно крупный, по сравнению с первым, несёт четыре высокие трубы, и на полубаке и правом борту то и дело мелькают бледно-оранжевые вспышки, после чего море вокруг беглеца вздыбливается высокими, но такими крошечными с этой высоты, фонтанами пены. Вот три таких фонтана выросли особенно близко к корме; кораблик резко повернул, и следующий залп пропал понапрасну, вспенив воду на большом отдалении от несостоявшейся жертвы. Та же снова изменила курс и сверкнула вспышками выстрелов в ответ – как ни старался фон Зеггерс, не смог разглядеть всплесков от падения снарядов.
Третий корабль, гораздо крупнее двух предыдущих, ворочал длинными стволами, попарно выглядывавшими из пяти плоских огромных башен, и воздухоплаватель обратил внимание, что направлены они отнюдь не в сторону мельтешащего впереди британского эсминца. «А неплохо было бы, накрой они сейчас лимонников полным залпом… – подумалось воздухоплавателю. – От этой мелкоты и щепки на воде не останется, если тяжёлый чемодан угодит ему между труб!»
Изображение линейного крейсера стало надвигаться, увеличиваясь, и немец вопросительно глянул на Фламберга. Тот развёл руками.
– Я тут ни при чём. Къяррэ зачем-то решили приблизиться к большому кораблю. Посмотрим, дальше наверняка будет интересно…
Из воспоминаний коммандера Хиггинса,
третьего баронета Гарвика.
В 1917-18 гг. командира
HMS «Лизард»
«…Я не беспокоился за мониторы – эти небольшие, но хорошо вооружённые корабли вполне способны постоять за себя. К тому же их низкие, едва видные над водой силуэты сами по себе служат неплохой защитой от вражеских снарядов. И тем сильнее было моё удивление, когда спустя несколько минут я увидел, что бой, в сущности, закончился, едва начавшись. „Бреслау“ после нескольких залпов в нашу сторону (видимо, они тоже опасались торпедной атаки) перенёс огонь на „Раглан“; несколькими минутами спустя к нему присоединились и одиннадцатидюймовки „Гебена“. Ответный залп „Раглана“, два четырнадцатидюймовых снаряда, лёг далеко за кормой „Бреслау“. М-28 со своей единственным орудием калибром в девять с половиной дюймов тоже вступил в бой – но это уже не могло отсрочить того, что произошло в течение следующих четверти часа. Третий или четвёртый залп линейного крейсера накрыл „Раглан“, и после этого попадания пошли один за другим, после чего монитор с оглушительным грохотом взорвался. „Гебен“ перенёс огонь на М-28, тремя залпами превратив храбрый кораблик в костёр; и в этот самый момент в небе, примерно на высоте полумили над германским ордером возникла алая тень. Я вскинул к глазам бинокль, но внимание моё было отвлечено гидропланом „Шорт“ – держась футов на сто ниже странного гостя, он широким виражом заходил для бомбометания на „Гебен“. Я перевёл бинокль на немецкий крейсер – было отчётливо видно, как разбегаются по своим постам расчёты противоаэропланных орудий, как комендоры крутят штурвалы наводки, задирая стволы к небу. Но всё же первым огонь по воздушным целям – по „Шорту“, а так же по непривычного вида ярко-красному дирижаблю – открыли зенитчики „Бреслау“, и я мысленно поаплодировал их расторопности и великолепной выучке…»
Теллус, Загорье.
В Заброшенном Городе.
– Смотрите-ка, гидроплан! – рявкнул вдруг фон Зеггерс, отчего стоявший рядом с ним профессор Смольский вздрогнул. – Англичанин, химмельдоннерветтер – поплавковая каракатица, в точности, как «Шорт» бедняги Инглишби, земля ему пухом, на котором он протаранил мой L-32!2 Только целит он не в къяррэ… да, точно, в «Гебен»! А корабля къяррэ эти пожиратели пудингов, чтоб им сто раз икалось, похоже, до сих пор не заметили!
Опытный воздухоплаватель оказался прав в первом, но ошибся во втором. Рядом с бортом линейного крейсера выросли всплески от бомб – промахи, промахи! Одновременно «Шорт» заложил вираж с набором высоты, а в кокпите забилась огненная бабочка – стрелок-бомбардир, избавившись от бомбового груза, переключил внимание на идущее наперерез гидроплану алое чудовище. Часть патронов в пулемётном диске были трассирующими, а потому дымные полосы летели зрителям прямо в лицо – и, несомненно, поражали корабль къяррэ.
– А толку-то… – пробурчал фон Зеггерс. – Целый корабль – это не «медуза», его твоим дерьмовым «Льюисом», разве что, пощекота…
Договорить он не успел. Перед глазами людей, наблюдавших как бы с мостика «плывунца» къяррэ появились одно за другим несколько ватных облачков – изображение в пузыре задёргалось, задрожало.
– Зенитки! – восторженно заорал фон Зеггерс. – Шрапнелями бьют! Молодцы, ребята, всыпьте этой гадине, и англичашке заодно! А то разлетались тут, понимаешь!..
Новые разрывы – только теперь ватные облачка вспухали совсем близко, казалось – ещё чуть-чуть, и до них можно будет дотянуться рукой. Пузырь лихорадочно запульсировал, изображение пошло радужными разводами – и пропало с оглушительным хлопком. Вместе с ним исчез и сам пузырь, лопнул, оставив после себя стойкий запах грозовой свежести. В повисшем в зале молчании раздался стон мучительной боли. Алекс обернулся – Фламберг катался по полу рядом с потускневшей без своей сияющей «начинки» «орбитали». Скрюченными пальцами обеих рук он вцепился себе в голову, и тонкие струйки крови стекали из ушей, из ноздрей, из уголков глаз магистра.