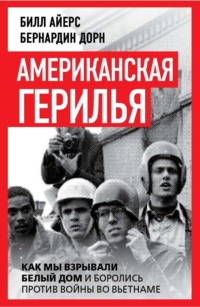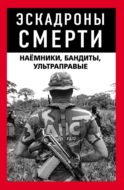Kitobni o'qish: «Американская герилья. Как мы взрывали Белый дом и боролись против войны во Вьетнаме»
© Айерс Б., 2024
© Дорн Б., 2024
© Катайцева Э.С., перевод на русский, 2024
© ООО «Издательство Родина», 2024
Американская герилья. Как мы взрывали Белый дом и боролись против Войны во Вьетнаме
Билл Айерс, Бернардин Дорн
Введение
Подожди минутку. Этого не может быть сейчас. Подожди.
Фитиль уже зажжен, маленькие искорки летят вперед в отчаянном, смертоносном танце. Стальные стрелки на больших часах неумолимо тикают, а мир все больше и больше выходит из-под контроля. Вся моя жизнь вот-вот взорвется.
Через минуту я буду шататься по пыльному участку дороги в одиночестве, бредя в ночь, все разорванное на куски, но я еще не знаю этого, пока нет. Намеки и зацепки, сомнения, страхи были растоптаны и изгнаны на дальние уголки моего сознания, и поэтому я просто сижу здесь, тупо глядя на эту заброшенную маленькую телефонную будку, гадая третью ночь подряд в сгущающихся сумерках, зазвонит ли когда-нибудь эта чертова штука. Все рухнет через минуту. Но не сейчас. Шестьдесят секунд до хаоса.
Выцветшая синяя вывеска не вызывает ни пристального внимания, ни доверия: «Открыто», – тревожно объявляет она, – «Телефон». Телефон работает – я проверял, а затем перепроверял сто раз, – но красная краска по краям выцвела до розового, тусклая лампа дневного света отчаянно мигает, а черный провод неуверенно тянется к основной линии. Я надеюсь, что любой здравомыслящий путешественник, даже самый отчаянный, направится в более многообещающее место; здесь нет ни еды, ни бензина, ни туалета, ничего, кроме одинокой грязной телефонной будки и сломанного стола для пикника. Теперь это моя собственная личная линия, как я и хотел.
Я прозвал это место Дворцом Паука из детской книжки, которую знал давным-давно, и это правда, черные пауки живут большими, собирая светящихся мух в хрупкую на вид, но неподатливую паутину. У Дианы и у всех остальных есть мой номер – я буду во Дворце Паука в восемь, сказала я, когда мы сверили часы и расстались несколько дней назад, – и вот я здесь ровно с восьми часов, жду.
Телефонная будка воняет застарелой мочой, которую, как я полагаю, ежедневно запекают в этой случайной солнечной печи. Кто бы мог здесь пописать? Вслух удивляюсь я, глядя вдаль, на горизонт, широкий, как церковная дверь. Может быть, вид заброшенной телефонной будки подобен звону колокольчиков собак Павлова. Мои мысли сейчас блуждают. Где все? Я стону в ночь, в себя. Пять минут девятого. Думаю, я подожду до четверти шестого, не дольше.
Я соскальзываю со стола и отхожу на несколько шагов, набираю пригоршню камней, бросая их один за другим в забытые богом деревянные ворота через дорогу.
Два часа ночи, звонка нет. Что, если сегодня вечером снова ничего не будет? Я вернусь во Дворец Паука завтра в восемь вечера, я думаю, и в восемь следующей ночи, и в следующую, и в следующую, наверное, навсегда. В последние месяцы я почувствовал, что мое мужество пошатнулось, а уверенность иссякла, но я крепко держусь за эту маленькую трудную вещь: дисциплину. Я должен был быть здесь с субботы, и вот я здесь. Этот телефон и я вцепились друг в друга мертвой хваткой; я не могу отпустить. Холодный воздух становится горьким, и я слегка дрожу. Давай, говорю я, снова нарушая тишину, чувствуя холод и одиночество. Позвони мне. Пожалуйста, позвони мне.

Уэзермены выступают на собрании «Студенты за Демократическое общество». Июнь 1969 года
Темный седан появляется вдалеке в виде точки, оставляющей след на дороге, с грохотом разгоняется мимо меня к далекому горизонту и, как мираж, быстро исчезает, и мой телефон внезапно оживает, взрывается, как ружейный выстрел. Два громких гудка, из обоих стволов. Я подскакиваю, чтобы схватить его, как спасательный жилет, прежде чем прыгнуть за борт тонущего корабля. «Эй, детка», – голос друга, но не Дианы. Что-то не так – близость, ее настойчивость, интимные объятия, я думаю, отчаявшихся. «Ты в порядке? – спрашивает она. – Ты один?»
«В чем дело?» – Спрашиваю спрашиваю я, мое разочарование грубо вытесняется простым страхом, более масштабным и внушительным. Что это? Я мог представить ее тогда, стоящей у своей собственной изолированной телефонной будки, жесткую и уверенную, совсем не похожую на меня. Но она колеблется; у нее неожиданно перехватывает дыхание, возможно, слышатся сдавленные рыдания, и неожиданная печаль закаляет ее стальную волю. В моей голове зазвенели сигналы тревоги.
– Ты должен уехать сейчас, – твердо говорит она. Самое позднее завтра. Мы встретимся через неделю на берегу. Произошел ужасный несчастный случай.
– Что за черт? Несчастный случай? О чем, черт возьми, она говорит?
– Да-да-да-да…
Теперь ее голос звучит странно бессвязно, она тараторит, как обезьянка, и я ничего не могу разобрать.
– Подожди минутку, – говорю я. – Этого не может быть сейчас. Подожди.
– Диана мертва, – повторяет она, и звук бьющегося стекла застревает у нее в горле. – И некоторые другие… тоже мертвы.
Мой разум заикается.
– Диана мертва, – медленно повторяет она, и тогда я бешено бегу, брошенный телефон раскачивается из стороны в сторону. Диана мертва – эти три пронзительных слова отражаются от стенок моего черепа непрерывным циклом – Диана мертва. Спотыкаясь, я падаю, вскакиваю, исцарапанный и покрытый гравием, снова бегу. Куда, по-моему, я направляюсь?
Голос, которого я не узнаю, доносится издалека, нарастая и собираясь в протяжный крик, исходящий из какого-то неведомого места внутри меня, – Нет! А потом наступила мертвая тишина, только шум воздуха и биение крови, эхо побега. Я слышу барабанный бой у себя в ушах, мое сердце колотится в груди, и я чувствую, как мои мышцы напрягаются на расстоянии, теперь работая автоматически. Я бегу, спасая свою жизнь, но я не знаю, куда я иду.
Через минуту я буду составлять списки – бросайте машины, скажут они, прячьте улики. Через минуту я, задыхаясь, буду заниматься ремонтом, пытаясь понять, где все пошло так ужасно неправильно. Но не сейчас. Теперь мой разум взрывается, и я бегу в полном одиночестве, практически в пустоту.
Это был март 1970 года, и американская война во Вьетнаме была наполовину закончена, хотя мы еще не знали этого. Женщина на другом конце провода скоро спасет меня, и вскоре после этого мы вместе погрузимся в подземную реку сильного, быстрого коричневого бога жизни, который будет тянуть нас на десятилетия вперед, но мы и этого еще не знали. Все, что было несомненно, – так это то, что Диана внезапно умерла, а я – в мгновение ока – потерял рассудок и пошел ко дну.
Часть первая. 1965—1970
Глава первая
Вьетнам смутно напоминал мне о доме, но всю дорогу уютно оставался на заднем плане. Он не сводил меня с ума, пока. Я не был уверен, что будет дальше. Кто знал? Я отправился на юг в поисках движения, которое почему-то не смог найти, а затем в море в поисках приключений и впечатлений, которые также ускользали от меня. Сейчас я возвращался домой, в Энн-Арбор, но подумал, что если здесь меня ничто не удержит, возможно, я пойду в армию и узнаю об этой войне. Жизненные уроки. Это казалось разумной альтернативой – я читал Нормана Мейлера. Возможно, я бы проникся тем жгучим ощущением, о котором мог бы написать.
К тому времени я видел только одно изображение Вьетнама – фотографию из международной прессы. На нем молодые американские парни, нагруженные снаряжением, высаживались где-то на золотом пляже, который простирался на многие мили до далеких зеленых гор, – они выплыли на берег, улыбаясь и выглядя целеустремленными и уверенными, как школьная футбольная команда, выбегающая через штанги ворот на поле перед большой игрой. Все выглядело не так уж плохо. Они понятия не имели, что их ожидало, о том, что грядет, но, с другой стороны, и я тоже.
Первым делом я позвонил Рути Штайн. Мне нужно было где-то остановиться, и Рути помогла мне найти маленькую лачугу, которую я мог себе позволить, – комнату на чердаке с маленьким окном и входом по пожарной лестнице. Там был диван для моего брата Рика, новенького первокурсника, застрявшего в общежитии, и он мог оставаться со мной, когда ему заблагорассудится, то есть всегда. Я записалась на занятия, но были дела поважнее.
К концу недели мы устроились, а затем Рути взяла нас с собой на встречу о Вьетнаме. Мы набились в маленькую комнатку в подвале союза с полудюжиной других людей – она была в совершенно новом антивоенном организационном комитете.
Сенат факультета рассматривал возможность проведения забастовки учителей, приуроченной к приближающемуся международному дню протеста против войны, и организационный комитет в этот момент обсуждал, приглашать ли представителей Госдепартамента США в кампус для дебатов.
– Мы не можем предоставить этим парням форум, – сказал высокий бородатый парень в очках с толстыми стеклами и в старой армейской куртке, пыхтящий на Camel. – Они просто запутают дело. – К его куртке была приколота большая алая звезда.
Я внимательно слушал, моргая и заикаясь на пути к какому-то новому осознанию, в то время как комната наполнялась идеями и дымом. Мужчины были в основном неинтересными и незапоминающимися, но в каждой женщине была своя привлекательная черта. Каламари была простой и невзрачной, но у нее были рыжие волосы и потрясающий смех. Марианна была худенькой, но у нее было прелестное ушко, которое так и просилось, чтобы его поцеловали. Джейми был толстым, но полным энергии бойца. Женщину и дыню, как однажды сказал поэт, нельзя узнать по их внешности.
Я сказал Рику, что, возможно, уеду из Энн-Арбора и поступлю на военную службу, но не упомянул об этом ни Рути, ни кому-либо еще. Рика привлекал пацифизм, и он читал гораздо больше, чем я, по философии, политике и истории. Ему сразу же не понравилась эта идея. Он сказал, что это безумие. Ты окажешься втянутым в то, чего даже не понимаешь, и это не значит, что ты можешь просто передумать и уйти. Ты не годишься для того, чтобы кого-то убивать, и ты пока не хочешь, чтобы тебя убивали, по крайней мере за это.
Теперь, в этой подвальной комнате, дискуссия велась вокруг целого ряда пацифистских и радикальных предположений, которые сделали бы добровольчество на войну немыслимым. Идеи были знакомы по движению за гражданские права – ненасильственное сопротивление, прямое действие и моральное свидетельство, нарушение несправедливых законов применялись в новом сложном контексте. Я бы никогда не упомянул, что меня чуть не завербовали в армию, и я надеялся, что Рик просто забудет об этом. Теперь я хотел поступить сюда. Я открыл глаза и, увидев мир, стал причастен к его проблемам. Шел 1965 год, и мне было двадцать лет.
Преподавательский состав не смог прийти к консенсусу по поводу забастовки – слишком многие считали, что учителя и интеллектуалы, в частности, морально обязаны выдвигать идеи, дискутировать, никогда не отступать, – и все же компромисс оказался неожиданно блестящим: все они будут вести свои занятия как обычно, но содержание этого однодневного протеста будет сосредоточено исключительно на Вьетнаме, его истории и культуре, его народе и его борьбе, а теперь – на вмешательстве США и кое-чем из того, что эта последняя глава может предсказать для Вьетнама и для нас. Таким образом, это будет однодневное обучение, которое приведет к целым выходным семинарам, выступлениям, дискуссионным группам и дебатам. У преподавателей были сильно расходящиеся взгляды по существу вопроса, но это оказалось несущественным. Что имело значение, так это открытие огромного нового пространства для дискуссий, активизация духа исследования. Все это неизбежно, я полагаю, спровоцировало критический настрой активиста, поскольку участник за участником спрашивали: «Что мы теперь знаем?» Что мы готовы делать с тем, что мы теперь знаем? Я был взволнован. Мы двигались, и мы были не одни.
За неделю до запланированного занятия Стэн Надир, смуглый и энергичный аспирант, который всегда носил черный берет с маленькой фарфоровой красной звездочкой, приколотой сбоку, произвел небольшой фурор в Аквариуме, центральном перекрестке кампуса. Я лишь немного знал Стэна по встречам – он был тихим одиночкой, но серьезным, и никто не сомневался в его целеустремленности, что для нас очень важно, потому что это было показателем морали. Он приобрел некоторую известность в кампусе как бесстрашный организатор, который часами в одиночку ходил из кабинета в кабинет, пытаясь заставить преподавателей подписать антивоенную петицию, а затем, в случае успеха, пытался заставить их пожертвовать деньги, чтобы петицию можно было разместить в виде рекламы на всю страницу в New York Times. В одном апокалиптическом репортаже Стэн провел полчаса с профессором социологии, который в конце концов выставил Стэна за дверь, фактически сказав, что это не его область знаний и что он недостаточно читал об этом, а потому не может подписать. Стэн вернулся на следующий день с большой стопкой литературы, статей и буковок, с которыми осажденный профессор согласился ознакомиться. На следующий день, вернувшись снова, профессор сказал Стэну, что все это было очень интересно, но, опять же, поскольку он не был экспертом, он обнаружил, что в один день был против войны, а на следующий – за нее. Ничуть не смутившись, Стэн спросил, может ли он вернуться, чтобы собрать подпись в один из дней, когда профессор был против войны.
Аквариум был местом всех видов повседневной деятельности кампуса, его стены обычно были увешаны плакатами, проходы были уставлены столами, где организации и клубы рекламировали мероприятия и набирали членов. В этот день, зажатый между балом «Неделя Греции» и столами «Марша десятицентовиков», вербовщик морской пехоты США сидел в парадной форме, подтянутый и важный. Рути и несколько других студентов начали раздавать листовки под названием «Информационный бюллетень по Вьетнаму», которые они подготовили для учебного занятия, но антивоенный организационный комитет счел их срочно необходимыми именно сейчас. Информационный бюллетень представлял собой совершенно неприкрашенную двустороннюю страницу через один интервал, трудночитаемую, но всеобъемлющую: «Декларация независимости Республики Вьетнам, провозглашающая свободу от Франции, начинается словами: “Мы считаем эту истину самоочевидной, что все люди созданы равными”; “Президент Эйзенхауэр заявил, что в результате свободных и справедливых выборов во Вьетнаме в 1956 году за Хо Ши Мина проголосовало бы 80 % избирателей”».
Дальше и дальше, все то, что вы могли бы найти, если бы захотели, потому что Рути переписала Информационный бюллетень. Я изо всех сил старался наверстать упущенное, и это была находка – мои личные заметки о Вьетнаме. Я мало что знал, но к середине дня почти все запомнил.
В тот первый день в Аквариуме разгорелись какие-то споры, но они были спорадическими и сдержанными. Однако когда рано утром следующего дня прибыл вербовщик морской пехоты, Стэн Надир уже был там с тоннами литературы о Вьетнаме, кипами плакатов и значками протеста, которые можно было купить за четвертак. Накануне вечером он также сделал плакат из простыней и повесил его стратегически высоко на стене над головой морского пехотинца:
Военные преступления – это зверства или правонарушения против людей и собственности, включая убийства, депортацию, бессмысленное разрушение городов или деревень… Любое лицо, принимавшие участие в этих действиях по собственному согласию, является военным преступником.
– Из документов Нюрнбергского процесса
Под громкой цитатой черными печатными буквами Стэн напечатал шесть слов: «Этот человек – военный преступник», за которыми следовала толстая красная стрелка, указывающая на голову морского пехотинца.
Знамя Стэна наэлектризовало Аквариум. Морской пехотинец кипел от злости и, откликнувшись на свой собственный призыв к оружию, бросился на вывеску. Стэн преградил ему путь. Были проведены консультации с администрацией. Морской пехотинец настаивал на отсутствии вывески; Стэн сказал, что никаких морских пехотинцев. После некоторого обсуждения и некоторого заламывания рук со стороны властей было решено, что оба останутся: по словам администрации, морские пехотинцы США имели полное право набирать рекрутов в кампусе, но студенты также имели право протестовать против их присутствия. Морской пехотинец нахмурился; Стэн занял вызывающую позу рядом с ним, скрестив руки на груди, – они представляли собой интригующее зеркало: сильные, гордые, немногочисленные. Это было своего рода перемирие. Но ненадолго.
Аквариум наполнился учениками, которые сначала сновали на занятия и обратно, останавливались, чтобы поспорить, а в конце концов и вовсе бросили школу. Группы людей массово переходили на сторону осажденных морских пехотинцев только для того, чтобы столкнуться с растущей группой антивоенных студентов. Люди входили и выходили весь день, высыпая на Diag и газоны за его пределами. Мы с Риком раздавали информационный бюллетень по краям Аквариума, каждый из нас с удовольствием вступал в небольшие споры по краям толпы, не сводя восхищенных глаз со Стэна, оказавшегося в центре бури. Когда Рик подслушал, как студентка в юбке «Пендлтон» и кардигане с золотой булавкой в виде круга на шее и значком женского общества над левой грудью попросила свою подругу не утруждать себя разговорами с нами, потому что, как она сказала, они пара нью-йоркских евреев, которые просто повторяют то, что написано в этом дурацком информационном бюллетене, – мы раздулись от гордости. «Неужели наш звук настолько хорош?» – мы задавались вопросом, пораженные.
Дебаты проходили над нами, вокруг нас и сквозь нас. Вьетнам становился для меня больше, чем точкой на карте. Это была земля с историей и географией, границами, как и везде, что-то, на что можно было посмотреть и найти. Во Вьетнаме местоположение оказалось извилистым. Оно включало в себя такие измерения, как надежды и страхи, страстные желания и ужасы, личное, интерпретируемое. Самая правдивая карта Вьетнама для американцев вскоре предстала бы в виде нацарапанных психических шрамов, калейдоскопа извилистых тропинок и безграничных горизонтов. Таким образом, Вьетнам стал бы местом как снаружи, так и здесь.
Рути подарила мне книгу фотографий, изображающих повседневную жизнь Вьетнама, большие цветные снимки, на которых изображены серо-голубые буйволы, опустившие головы, растопырившие рога, тяжело барахтающиеся в грязи с провисшими в воде животами, маленькие мальчики с бамбуковыми палками на спине; мужчины, раскидывающие огромные сети по изумрудным полям, собирающие сверчков для птиц, которых они продают на рынке; вереница женщин в конических шляпах, защищающих от солнца, по колено в воде, ритмично кланяющихся, чтобы посадить молодые побеги риса; толпа детей с черными глазами; сияющие круглые лица, с шумом вырывающиеся на грязную дорогу в погоне за цыплятами; река мотоциклов, несущихся по старой части Ханоя, младенцы, сидящие на рулях, дедушки, цепляющиеся за задние сиденья, все едут, едут. Люди соскакивали со страниц и смотрели на меня, трепетные и живые, некоторые казались древними, как драконы, другие – молодыми, как бледные ростки, пробивающиеся из рисовых полей, все они излучали сентиментальность, каждый был объектом моего растущего романа. Не знаю почему, но через некоторое время я почувствовал, что знаю их каждого в отдельности. Неправда, конечно, но они казались мне сверхреальными, больше, чем людьми. И я почувствовал, что война обостряется, каковой она и была на самом деле, и ведется лично от моего имени молодыми парнями, которых я знал, которые могли бы быть на моем месте. Сейчас я ничего не хотел, кроме как покончить с войной, покончить с ней сейчас же.
Вьетнам находился в изоляции, и тогда в Соединенных Штатах не жило ни одного вьетнамца; все, что производилось в Ханон, было слегка контрабандным. Книга Рути пришла через Париж, большая часть литературы, пуговиц и книг Стэна – через Ванкувер. Стэн приклеил копию совсем другой фотографии к одному из своих плакатов, поначалу довольно невинной, постепенно непонятной и внезапно ошеломляющей: четверо американских мальчиков, стоящих на коленях на солнце, с обнаженной грудью, широко улыбающихся, расположившихся на траве в обрамлении тропических растений и деревьев, четверо советников в зеленых беретах, посланных обучать вьетнамцев-антикоммунистов. Это было похоже на знакомый снимок из ежегодника команды по плаванию, или футбольной команды, или капитанов бейсбола – свежеокрашенные, торжествующие ребята. Один из них был похож на Барфлая, другой – на моего брата Тима. Черт возьми, один из них был похож на меня. Но как раз там, где должны были быть золотые кубки или кедровые таблички, прямо перед ними, сейчас они держат в руках отрубленные человеческие головы с вечно открытыми тусклыми невидящими глазами, отрезанные уши, нанизанные на декоративный ошейник, который носит на шее один улыбающийся ребенок. Голова на коленях этого ребенка тоже гротескно улыбнулась, и у меня закружилась голова. Я вспомнил Маркса из подготовительной школы, неуклонное разоблачение присущего этой системе варварства, по мере того как она отворачивается от своей домашней базы, где злоба иногда может принимать респектабельные формы, в сторону колоний, где она обнажается. Здесь были парни вроде меня, которых превращали в монстров; здесь была обнаженная Америка, без притворства, голая и открытая на земле, выставленная на обозрение каждому прохожему. У меня закружилась голова.

Билл Айерс
Противостояние в Аквариуме разлившейся рекой перетекло в учебный класс, перенося меня по каскадам воды из комнаты в комнату, из зала в зал, отражаясь от валунов. В одном лекционном зале Роджер Ванилла, местный анархист, утверждал, что если вы признаете существование экспертного класса, вы вбиваете гвоздь в крышку гроба демократии. «Не следуйте за лидерами!» – кричал он.
– Это война мечты, – продолжил он, и в этой войне все равны и все свободны. Он говорил о тактике, объясняя в пылкой обличительной речи, что все системы являются спекулятивными, основанными на предполагаемой норме, и, следовательно, могут быть разрушены при серьезном задействовании нашего воображения.