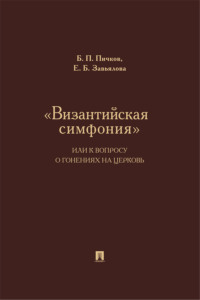Kitobni fayl sifatida yuklab bo'lmaydi, lekin bizning ilovamizda yoki veb-saytda onlayn o'qilishi mumkin.
Kitobni o'qish: ««Византийская симфония», или К вопросу о гонениях на церковь»
Авторы:
Пичков Б. П., кандидат экономических наук, доцент, действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса;
Завьялова Е. Б., заведующая кафедрой экономической политики и государственно- частного партнерства Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Рецензенты:
Стрелец И. А., доктор экономических наук, профессор Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации;
Студеникин Н. В., кандидат политических наук, доцент Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.

ebooks@prospekt.org
© Пичков Б. П., Завьялова Е. Б., 2025
© ООО «Проспект», 2025
Идеологическая борьба
В области теории первоосновой является незавершенная двухтысячелетняя борьба идеализма и материализма как основных философских учений о познании мира. К материалистам относятся такие выдающиеся ученые, как Людвиг Фейербах (1804–1872), Карл Маркс (1818–1883), Фридрих Энгельс (1820–1895). Учеником и сторонником этого направления философии являлся и Владимир Ильич Ленин (1870–1924). Среди их оппонентов наиболее знаковыми фигурами являются Томас Гоббс (1588–1679), Джон Локк (1632–1704), Джордж Беркли (1685–1753), Георг Гегель (1770–1831), Рихард Авенариус (1843–1896), Эрнст Мах (1838–1916).
Материализму присуще познание объекта в себе или вне ума. Идеи и ощущения – копии или изображения этих объектов. По Л. Фейербаху материализм берет природу за первичное; дух, идею – за вторичное. На первое место ставится бытие, на второе – мышление. По определению, данному В. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм» (1909), «материя есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них»1. Для нас важно то, что основные положения, изложенные в данном труде, в дальнейшем легли в основу практической деятельности партии большевиков.
Для идеалистов объекты не существуют «вне ума» и представляют из себя комбинации ощущений. Наиболее ярым и последовательным сторонником данного философского учения являлся епископ Дж. Беркли. Свои взгляды он изложил в трактате «Об основах человеческого познания», вышедшем в 1710 г. Епископ не только отвергал материализм, но и преследовал его сторонников как врагов. По словам Дж. Беркли, на основе материализма воздвигнуты все безбожные построения атеизма и отрицания религии. Он считал внешний мир, природу «комбинацией ощущений», вызываемых в нашем уме божеством. Объективный идеализм Дж. Беркли заключается в том, что мир оказывается не моим представлением, а результатом одной верховной духовной причины, создающей и законы природы, и законы отличия «более реальных идей от менее реальных». По мнению французского писателя и философа-просветителя Дени Дидро (1713–1784), идеализм является экстравагантной системой, которую могли создать только слепые. Но эту систему, к стыду философии, несмотря на ее абсурдность, труднее всего опровергнуть.
Таким образом, различие двух основных ветвей философии заключается в том, идем ли мы от вещей к ощущению и мысли или от мысли к ощущению и вещам. Материалисты считают ощущения одним из свойств движущейся материи, что, в свою очередь, отрицают идеалисты.
Помимо двух вышеуказанных противоположных радикальных течений, следует отметить наличие такого направления, как агностицизм. Его наиболее яркими представителями являются Дэвид Юм (1711–1776) и Иммануил Кант (1724–1804). Основная черта их философии заключается в стремлении примирить идеализм и материализм, найти компромисс между противоположными философскими направлениями.
Юм и Кант отрицают возможность познания мира, или, по крайней мере, его полного познания, что и является агностицизмом. Для Канта это так называемая вещь в себе. Когда он допускает, что нашим представлениям соответствует какая-то «вещь в себе», то он материалист. Но когда Кант объявляет ее непознаваемой, трансцедентальной, потусторонней, то здесь он выступает как идеалист. За это Юм и особенно Кант подвергались критике слева и справа, как со стороны материалистов, так и со стороны идеалистов. Так, Ф. Энгельс критиковал кантовскую непознаваемую неуловимую вещь в себе, отмечая, что непознаваемое не есть синоним непознанного. По мере развития естествознания сужаются и пределы непознанного.
В работе «Развитие социализма от утопии к науке» Ф. Энгельс называл агностицизм «стыдливым материализмом». Он говорил, что взгляд агностиков на природу полностью материалистичен, так как мир управляется законами и исключает воздействие извне. В то же время никто не может ни доказать, ни опровергнуть существование какого-либо высшего существа вне известного нам мира.
В разделе 4 книги «Материализм и эмпириокритицизм», озаглавленном «Существует ли объективная истина», В. И. Ленин затрагивает вопрос о соотношении знания религии и учения науки. Он не отрицает, несомненно, высокоорганизованный социально-религиозный опыт. Но этот опыт, по его словам, «не гармонирует с опытом науки». Принципиальная и коренная разница заключается в различных взглядах на объективную истину. Естествознание стихийно стоит на точке зрения материалистической теории познания. Несмотря на относительность наших знаний, по мере развития науки она все более и более приближается к объективной истине. В свою очередь фидеизм отвергает не науку, а только ее чрезмерную претензию на «объективную истину». Процесс познания мира может и должен дополняться религиозной верой.
В религии истина дается в откровении, полученном от Бога, и поэтому не нуждается в научном и философском обосновании. Через откровение можно приблизиться к Богу, к его промыслу. Таким образом, идея примата веры над разумом является одним из постулатов религиозной мысли.
Продолжая спор с идеалистами, В. Ленин утверждал, что «философия, которая учит, что сама физическая природа есть производная, это – чистейшая поповщина. Если природа есть производное, то она может быть производным от чего-либо такого, что больше, богаче, шире, могущественнее природы, чтобы „произвести“ природу, надо существовать независимо от нее. По-русски это называется богом. Философы-идеалисты всегда старались изменить это последнее название, сделать его абстрактнее, туманнее. Абсолютная идея, универсальный дух, мировая воля – это одна и та же идея, только в различных формулировках»2. Идеализм же приравнивает (если не подчиняет природу богу). По мнению вождя революции, это насмешка над естествознанием.
Развивая эти тезисы, он говорит, что назвать мысль материальной – значит сделать шаг к смешению материализма и идеализма. В этой связи можно напомнить известные слова К. Маркса, высказанные в статье «К критике гегелевской философии права», – «теория становится материальной силой, как только она овладевает массами»3. Что здесь важно с точки зрения нашего исследования? Это не означает, что Карл Маркс как материалист делал уступку идеализму. Просто любая философская идея, будь то идеализм или марксизм, когда овладевает массами, имеет право на существование и должна как любое мировоззрение уважаться, а не отбрасываться или игнорироваться.
Продолжая спор с оппонентами, В. И. Ленин отмечал, что как у бога антипод – дьявол, так у очищенной профессорской религии идеалистов таким антиподом является материалист. В главе пятой «Новейшая революция в естествознании и философский идеализм»4 он разбирает кризис традиционной физики в связи с новыми открытиями конца XIX – начала XX в., а именно сущность «физического идеализма». Материализм настаивает на временном, приблизительном характере познании природы развивающейся наукой. Отвергая тезис некоторых исследователей, говоривших, что «материя исчезла», В. Ленин писал, что электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна и бесконечно существует5.
В работе вновь проводится мысль о том, что большинство естествоиспытателей склоняются к материализму. Вместе с тем меньшинство ученых, особенно физиков, под воздействием пересмотра старых теорий, показывающих относительность наших знаний, незнания диалектики приходят к идеализму.
Религиозный вопрос в России
В работе «Материализм и эмпириокритицизм», которая писалась и дорабатывалась в эмиграции в течение года, В. И. Ленин подводит философскую основу под свое отношение к многовековым спорам между идеалистами и материалистами, обосновывает научную непримиримость марксизма к религии. В этом труде он также спорит и с российскими идеалистами В. Черновым, А. Богдановым, В. Базаровым, П. Юшкевичем, которые либо выступали как сторонники Маха и Авенариуса, либо пытались примирить идеализм и материализм.
Все они принадлежали к российским социал-демократам, к одному поколению революционеров, но к различным течениям. В. Чернов, например, являлся одним из основателей партии эсеров, был первым и последним председателем Учредительного собрания. В области теоретической философии отстаивал учения Маха и Авенариуса, а в сфере экономики следовал Карлу Марксу. А. Богданов и В. Базаров являлись большевиками, а П. Юшкевич примыкал к меньшевикам. Часть из них в годы реакции после Первой русской революции 1905 г. отошли от активной политической деятельности, но продолжали заниматься вопросами экономики, философии, права.
В то время практически по всем вопросам, в том числе и по религиозному, в рядах российской социал-демократии существовал плюрализм мнений, и имеющиеся разногласия и противоречия в существеннейших вопросах до поры сглаживались из тактических соображений. Авторитет В. Ленина хотя и признавался, но не был бесспорным. Можно сказать, что в начале XX в. в рядах российской социал-демократии он был первым среди равных. В основном соратники по борьбе были ровесниками, получили хорошее образование (МГУ, Санкт-Петербургский университет), отлично разбирались в вопросах философии, истории, политэкономии и имели собственную точку зрения, которую открыто излагали в научных трудах, статьях и выступлениях. Даже такой выдающийся деятель, как Г. В. Плеханов (1856–1918), считался стариком, больше теоретиком, чем практиком, а революция, как известно, – дело молодых.
Уже второй съезд РСДРП (1903 г.) привел к образованию в РСДРП двух партий: большевиков (Ленин) и меньшевиков (Мартов). Меньшевики как умеренное крыло партии являлись ортодоксальными сторонниками марксизма и выступали за полное копирование тактики европейских социал-демократий. Большевики же в борьбе против царизма взяли курс на создание боевых организаций и на вооруженное восстание. В конце концов, РСДРП была одной из многочисленных партий, боровшихся с царизмом, и, как представляется, в иных условиях образование Временного правительства и последующий курс на Учредительное собрание могли бы привести к совершенно другим результатам, в том числе и по вопросам отношения к религии.
В России, как и в европейских странах, отношение социал-демократии к религиозным вопросам не было единым и однозначным. В девяностые годы XIX в. российские марксисты не любили даже называть себя атеистами. Основная причина заключалась в том, что в то время атеистами были народники, радикалы, либералы и представители других направлений общественной мысли. Атеист просто противопоставлялся теисту, но мог быть необязательно материалистом. Отрицая религию, он мог быть сторонником идеализма или субъективизма. В ту пору это было обычным явлением. В печатном органе социал-демократии «Искра» термин «атеист» нигде не встречается. Отношение к религии выражалось следующими словами: «Социализм как борьба за освобождение человека от всякого рабства, в том числе и от рабства духовного, объявляет войну религиозной идее и ее представительнице – церкви»6. Избегал этот термин в своих работах и В. Ленин.
Борясь с «экономистами» и «рабочедельцами» по вопросу об объеме социал-демократической агитации, он предлагал не ограничиваться только работой на заводах и фабриках, но и смотреть на те направления, которые сулят осязаемые результаты. В. И. Ленин считал, что преследование сектантов царским правительством является удобной почвой для агитаторов против самодержавия. Еще в 1899 г. в «Проекте программы нашей партии» отмечался рост протестного выступления сектантов под религиозной оболочкой. Сектантство выдвигало требование свободы слова, обучения, демократизации в вопросах устройства религиозной жизни. Естественно, социал-демократы рассматривали протестные выступления сектантов в тесной связи с классовой борьбой на фоне расслоения крестьянства.
В начале XX в. в России в сектантской среде насчитывалось до сорока течений и групп, которые охватывали значительные слои населения. Само сектантство также не было однородным. Многочисленные секты проявляли солидарность в общей позиции к абсолютизму, но одни вкладывали в свою оппозиционность демократические ценности, а требования других не простирались далее либеральных воззваний. К первой группе условно относились секты хлыстов, духоборов (духоборцев), молокан, малеванцев, новоштундистов, иеговистов, толстовцев, которые в городе опирались на полупролетарские элементы, а в деревне – на бедняцкое и пролетаризирующие крестьянство. Ко второй – секты баптистов, евангелистов, адвентистов, которые в городе делали ставку на мелкую буржуазию, торговых людей, чиновничество, а в деревне – на зажиточных крестьян.
Среди российских социал-демократов отношение к сектантству было неоднозначным. Сторонники Ленина считали, что работа среди «левого» крыла сектантов сможет объединить пролетариат деревень с пролетариатом городов, для чего социал-демократам достаточно предпринять ряд правильных систематических усилий. Другая часть марксистов скептически относилась к перспективам пропаганды среди сектантских групп. В качестве аргументов приводились замкнутость сектантских объединений, трудности работы в крестьянской среде, необходимость сконцентрировать усилия на пропаганде среди рабочих городов. Необходимо также помнить о неудачах прежних поколений революционеров, работавших на селе, в частности печальный опыт таких организаций, как «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел».
План работы в сектантской среде был подготовлен в общих чертах В. Д. Бонч-Бруевичем и изложен в начале 1902 г. в статье «Значение сектантства в современной России». Он предусматривал издание брошюр, прокламаций и летучих листков и их распространение в деревне. Систематическое продвижение нелегальной литературы должно было подготовить почву для создания в селах революционных организаций крестьян. Для осуществления этой задачи предполагалось выделить пропагандистов и организаторов в сектантской среде. При этом учитывалось, что сектанты являются наиболее передовой и грамотной частью крестьянского населения.
План был поддержан В. И. Лениным, и вопрос о работе среди сектантов был включен в повестку дня II Съезда РСДРП, состоявшегося в августе 1903 г. Съезд принял следующую резолюцию: «Принимая в соображение, что сектантское движение в России является во многих его проявлениях одним из демократических течений, направленных против существующего порядка вещей, II Съезд обращает внимание всех членов партии на работу среди сектантов с целью привлечения их к социал-демократии»7.
Во исполнение решения II Съезда РСДРП с января 1904 г. в Женеве стал издаваться социал-демократический листок для сектантов «Рассвет». Это был ежемесячный журнал тиражом 2000 экземпляров. Всего в течение 1904 г. вышло девять номеров, которые распространялись в России и за границей в основном среди русских духоборов в Америке.
На появление нового журнала для сектантов резко отреагировала официальная церковь. В своем издании «Миссионерское обозрение» редакция отмечала, что «Рассвет» выпускается лицами, ранее непричастными к религиозным вопросам или сектантскому движению. Журнал борется за интересы социал-демократии, иначе говоря, без веры и Бога и издается врагами церкви и царя. Издание уже ведет «не по толстовскому пути пассивного сопротивления существующему церковному и государственному строю, а по пути активному, т. е. по пути прямой анархии и революции»8.
Ставка на сектантство как на самый «просвещенный» элемент деревни не сработала. А ведь на кону стояла поддержка широких слоев сектантов, количество которых насчитывало два и более миллиона человек. После Первой русской революции сектантство пошло на примирение с самодержавием. Для этого у раскольников были свои причины, которые большевики не учли. Во второй половине XIX в. проводилась политика либерализации отношения власти к сектантам. При Николае I в 1842 г. было выпущено постановление «О порядке распределения раскольнических сект по степени их вреда». Деление было следующим: секты наивреднейшие; секты вредные; секты менее вредные. К первым относились иудействующие, молокане, скопцы, т. е. беспоповские секты, которые отвергали брак и молитву за царя. Ко второму разделу причислялись те беспоповские секты, которые принимали брак и не отрекались молиться за царя. К этим двум ответвлениям были особо строгие гонения как со стороны власти, так и со стороны церкви.
При правлении Александра III проводилась уже так называемая «народная политика», выражением которой стал Закон о раскольниках от 3 мая 1883 г. Им, особенно старообрядцам, были даны значительные послабления. Политика Николая II по отношению к сектантам была непоследовательной. Под влиянием обер-прокурора К. Победоносцева, считавшего подписанный Александром III закон слишком либеральным, на подготовленном им 8 декабря 1899 г. секретном докладе об усилении репрессивных мер к раскольникам царь написал резолюцию «Согласен». Над сектантами сгущались тучи. На тайном старообрядческом съезде 1900 г. была подготовлена «челобитная» царю, которую им удалось передать монарху через Великого князя Александра Михайловича. Николай II согласился с доводами раскольников и велел сообщить им через министра внутренних дел, что закон от 3 мая 1883 г. остается в силе.
Революция 1905 г. поставила точку в вопросе отношения социал-демократии к сектантскому движению. Либеральное движение сектантов примирилось с абсолютизмом. Баптисты, евангелисты, адвентисты опубликовали «Политическую платформу „Союза свободы, правды и миролюбия“», в которой говорилось, что они не желают Учредительного собрания, так как вопрос о форме государственной власти решен для них бесповоротно Всероссийским великим земским собором 13 февраля 1613 г.9
Так закончилось заигрывание социал-демократов с христианскими «прогрессивными» течениями. Сектантство, которое до 1905 г. позволяло себе либеральную оппозицию к существующему строю, взяло в общественной области курс на встраивание в буржуазные христианско-политические партии, а в церковной сфере – на превращение в легальные церкви, сосуществующие с православной церковью со своей обрядностью, иерархией и догматикой. Безусловно, официальная церковь приветствовала отход сектантства от социал-демократического движения, что, однако, не означало изменения прежней церковной позиции к раскольникам.
Неудавшаяся революция 1905 г. и последовавший за ней период реакции привели к пересмотру и корректировке социал-демократией подходов к церкви, а для интеллигенции и даже ряда марксистов – к философскому переосмыслению произошедших событий, которое вылилось в богостроительство и богоискательство. Наиболее яркими представителями этого направления являлись Л. Н. Толстой, А. М. Горький, А. В. Луначарский.
Спор вождя революции с Л. Н. Толстым был заочным, так как в это время великого писателя-гуманиста уже не было в живых. Это была сугубо марксистская критика, всецело обоснованная моментом и классовой точкой зрения социал-демократов. В частности, В. И. Ленина не устраивали «непротивленство», апелляции к «Духу», доктрина совести и всеобщей любви, которые, по его мнению, приносили самый непосредственный и глубокий вред. В статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» он отмечает, что у писателя борьба с казенной церковью совмещалась с проповедью новой, очищенной религии, т. е. нового очищенного яда для угнетенных масс. Для Л. Н. Толстого, пришедшего к выводу, что нет Бога, кроме нравственного закона внутри человека, это было плодом его собственных внутренних изысканий. Естественно, в силу своего возраста великий писатель-гуманист не обязан был делать выбор между материализмом и идеализмом и тем более рассматривать все с точки зрения классовой борьбы.
В статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» В. И. Ленин объяснил кажущуюся на первый взгляд странность и искусственность сопоставления имени писателя с революцией, которую тот не понял и от которой отстранился. Противоречивость во взглядах и учении великого писателя заключалась в том, что, с одной стороны, он обличал насилие государства, систему государственного управления, а с другой – проповедовал непротивление злу насилием. Идеи Л. Н. Толстого об отстранении от политики в революции 1905 г. сделали то, что за пролетариатом пошло меньшинство. Из этого выводилось, что учение Толстого есть зеркало слабости и недостатков восстания, которое не поддержала основная часть населения, в том числе и христианство10.
Что касается пролетарского писателя А. М. Горького, то в начале века он находился в тесном общении с русскими сторонниками идеалистов Маха и Авенариуса – А. Богдановым и В. Базаровым и, несомненно, сочувствовал этому направлению. Большое влияние на него также оказал теоретик богостроительства А. В. Луначарский, с которым писатель познакомился в 1905 г. В. И. Ленин достаточно резко критиковал Горького за соединение научного социализма с религией. Его раздражало то, что споры литераторов о философии влияют отрицательным образом на партийное дело. Считается, что пролетарский писатель признал критику, но идеи богостроительства, изложенные в его произведениях, остались и продолжали оказывать влияние на массы.
Пророком нового учения богостроительства и богоискательства, безусловно, являлся А. В. Луначарский (1875–1933). Главным его трудом этого направления являлась работа в двух томах «Религия и социализм». В ней он пытался доказать, что Карл Маркс – философ был принесен в жертву Марксу – экономисту и бойцу. Луначарский считал, что, сосредоточившись на развитии учения о классовой борьбе, его последователи не поняли философской сути марксизма. По его мнению, философия Карла Маркса есть, по сути, философия религиозная. В качестве примера дается отсылка на первые строчки «Манифеста коммунистической партии», начинающегося словами: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Призрак, по его словам, есть существо не материальное, а религиозное, т. е. в данном контексте это лишь удачный художественный образ.
Основы учения Луначарского сводятся к следующему.
1. Христианская религия со всеми ее сектами и философскими отростками по своим корням демократична.
2. Христианство представляет собой первоначально религию рабов, религию низов, бедняков, развертывающуюся постепенно в виде сознательного протеста против религии богатых.
3. В основе такого рода демократических религий лежат и революционные идеи, и, даже иногда в значительной мере, социалистические.
4. Марксисты отрицают существование какого бы ни было Бога. В мире его нет, но он может быть. Путь борьбы за социализм, т. е. за триумф человека в природе, и есть богостроительство.
5. Огромное количество людей настроено религиозно, и им легче подойти к истинам социализма через свое религиозно-философское мышление.
6. Бог есть человечество в высшей потенции.
7. Социал-демократическое движение есть новая форма религии, поскольку оно преследует аналогичную религии цель: освободить род людской от бедности.
Эти новые под Маркса идеи были приняты в партии весьма недружелюбно, их считали ересью. Забегая вперед, можно сказать, что только после 1917 г. эта идеология оказалась как раз подходящей для масс и окрасила пропаганду большевиков.
Несмотря на некий разброд и шатание в рядах социал-демократов по вопросу религии, фракция большевиков исходила из положений, изложенных В. И. Лениным в статьях «Социализм и религия» (1905 г.) и «Об отношении рабочей партии к религии и церкви» (1909 г.). В этих работах имеются прямые ссылки на К. Маркса и Ф. Энгельса, говоривших, что религия есть опиум для народа, и с ней надо бороться пропагандой атеизма, изданием соответствующей атеистической литературы, в том числе просветителей XVIII в.11 Одновременно В. И. Ленин подчеркивал, что одними книжками нельзя рассеять религиозные предрассудки и просветить пролетариат, если его не просветит собственная борьба против капитализма. В этой связи религиозный вопрос не следует выдвигать на первое место, чтобы не допустить дробления революционных сил, а направлять основные усилия на экономическую и политическую борьбу.
20kriike.pdf; Энгельс Ф. Эмигрантская литература // Революционный архив. URL: https://revarchiv.narod.ru/marxeng/tom18/emigrantskaya_literatura.html (дата обращения: 07.11.2024).
Bepul matn qismi tugad.