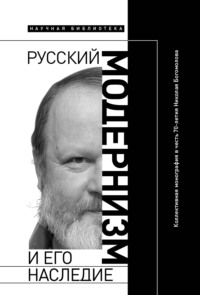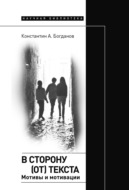Kitobni o'qish: «Русский модернизм и его наследие. Коллективная монография в честь 70-летия Н. А. Богомолова»
Александр Лавров (Санкт-Петербург)
«…ПРЕИМУЩЕСТВЕННО О ПОЭЗИИ»
К ЮБИЛЕЮ Н. А. БОГОМОЛОВА
Ниже предлагаемый текст писался в надежде на то, что 16 декабря 2020 года Николай Алексеевич Богомолов прочтет его в день своего 70-летия. Эти приуроченные к дате скромные величальные строки были призваны указать лишь в самом общем, поверхностном приближении на то очень многое, что он уже успел совершить в нашей историко-литературной науке, а также осветить открывающиеся перед ним в будущем перспективы. В последних не было оснований сомневаться: ученый подошел к своему юбилею на подъеме творческих сил; казалось, впереди его ждут не только годы, но десятилетия плодотворной, ярко результативной творческой деятельности. Казалось, что и меня поджидают новые возможности давней, многодесятилетней крепкой дружбы с этим замечательным человеком, дружбы, не омраченной ни конфликтами, ни взаимонепониманием: всегда мы понимали друг друга с полуслова, без каких-либо средостений внешних обстоятельств, всегда осознавали, что делаем общее дело. И вот – случившееся перевело все в иной регистр.
Я ничего не меняю в тексте, приуроченном к юбилею Н. А. Богомолова, до которого он не дожил несколько недель. Трагизм неизбывной кончины сохранится с нами, величие ушедшего Мастера только укрупнится.
«От Пушкина до Кибирова. Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии», – гласит заглавие одного из сборников (2004) работ Н. А. Богомолова. Русская поэзия в самом широком временном диапазоне, обозначенном этим заглавием, является важнейшим и самым излюбленным предметом исследовательских интересов ученого, начиная с его дебютной заметки, появившейся в 1972 году и посвященной поэзии Ахматовой, и эта тематическая доминанта освещает весь его творческий путь, продолжающийся уже почти пять десятилетий.
Упомянутая двухстраничная работа, напечатанная в Новосибирске в сборнике тезисов докладов, прочитанных на студенческой конференции, в свое время прошла мимо моего внимания, и только осуществленная Н. А. Богомоловым в 1981 году в «Вопросах литературы» публикация замечательного письма Бориса Пастернака к Юрию Юркуну открыла мне доселе незнакомое имя. Чувство досады на себя, ранее, еще в студенческие годы, скопировавшего в архиве опубликованное Богомоловым пространное письмо и так и не удосужившегося довести его до печати, совмещалось у меня с радостным осознанием: нашего полку – тогда еще совсем малочисленного – прибыло.
Со всей наглядностью творческая энергия Н. А. Богомолова смогла реализоваться, когда во второй половине 1980‐х годов распахнулись идеологические и цензурные шлюзы и открылись страницы печати для тех поэтов, которые для него были наиболее притягательными, – поэтов предреволюционных десятилетий. В течение двух-трех лет (1989–1991) выходят в свет подготовленные им сборники стихов и прозы Н. Гумилева и З. Гиппиус в серии «Забытая книга», первый, стихотворный том трехтомного издания Гумилева, том сочинений Георгия Иванова, «Кипарисовый ларец» И. Анненского, сборник литературно-критических статей и рецензий В. Брюсова (составленный совместно с Н. В. Котрелевым) и т. д.
Поражает не только количество многостраничных томов: сколько текстов, за десятилетия советской власти не переиздававшихся, пришлось впервые собирать, сверять строчку за строчкой, потом корпеть над корректурами, – но и качество их исполнения: высочайший профессионализм, адекватность и корректность оценок и аттестаций, подлинный историзм и объективность аналитических характеристик, особенно отрадных на фоне еще нависавшей в общественной атмосфере идеологизированной демагогии, четкость и функциональная определенность комментаторских пояснений (иногда вынужденно сжатых из‐за предустановленных издательских требований). Книги, подготовленные тогда Богомоловым в соответствии с критериями изданий, адресованных так называемому «массовому» читателю, контрастировали с той нахлынувшей лавиной «разрешенного», которая в плане профессионального исполнения вполне соответствовала мандельштамовскому определению: «потоки халтуры».
В те же годы определились основные исследовательские приоритеты, которым Н. А. Богомолов остается верен и в последующую пору. При этом преобладающее внимание к поэтическому творчеству избранных авторов, наглядно реализовавшееся при подготовке соответствующих томов для «Библиотеки поэта», дает импульс к многостороннему восприятию и истолкованию других аспектов, в которых проявляется та или иная индивидуальность.
Подготовка тома стихотворений М. Кузмина в упомянутой серии (1996) сопровождается изданием отдельного авторского сборника («Михаил Кузмин: статьи и материалы», 1995), включающего «маленькую монографию» (изобретенный Н. А. Богомоловым термин) о поэте, ряд статей, затрагивающих различные локальные темы, относящиеся к его биографии и творчеству, и публикации эпистолярного наследия. Стихотворения, оставшиеся за пределами тома «Новой библиотеки поэта», вместе с эпистолярией Кузмина образовали том «Стихотворения. Из переписки» (2006), а избранные прозаические произведения – сборник «Плавающие путешествующие» (2000). Наконец, в соавторстве с С. В. Шумихиным Богомолов осуществил поистине титанический труд – двухтомное издание дневника Кузмина за 1905–1915 годы (2000, 2005), исключительно сложного для комментирования, а в соавторстве с Джоном Малмстадом опубликовал монографию «Михаил Кузмин: Искусство, жизнь, эпоха» (1996), вышедшую также на английском языке и дважды переизданную в дополненной редакции на русском.
Аналогичный образчик творческой практики нашего автора – его работа по изданию и изучению В. Ходасевича: за подготовленным им томом стихотворений в Большой серии «Библиотеки поэта» (1989) последовали тома собрания сочинений в 4 томах, изданные при его участии, сборники мемуарных очерков и критических статей Ходасевича, публикации его писем и целый ряд статей о поэте, объединенных в сборнике «Сопряжение далековатых. О Вячеславе Иванове и Владиславе Ходасевиче» (2011).
Вячеслав Иванов в обозреваемом послужном списке юбиляра должен быть упомянут особо. Н. А. Богомолов – инициатор и один из основных участников двухтомного издания переписки Иванова с Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (2010), едва ли не самого объемного и уж во всяком случае едва ли не самого сложного в плане текстологической подготовки корпуса эпистолярных текстов, относящихся к истории русского символизма (говорю в данном случае с полной уверенностью, поскольку пытался работать с этими автографами задолго до их опубликования). Параллельно с подготовкой этого издания Богомолов тщательным образом обработал и всю семейную переписку Ивановых, давшую бесценный материал для детального воссоздания обстоятельств литературной жизни середины 1900‐х годов, концентрировавшейся во многом вокруг личности Иванова; результат этих изысканий – книга Богомолова «Вячеслав Иванов в 1903–1907 годах. Документальные хроники» (2009).
Пока были упомянуты только литературные корифеи, оказавшиеся в исследовательской орбите Н. А. Богомолова. Однако основной предмет его аналитических опытов – не отдельные признанные гении, в своей самодостаточности высящиеся над плоской равниной культурной посредственности, а весь литературный процесс – во всем его многоголосии, со всеми, порой причудливыми, аффектами, внутренними столкновениями и даже неприглядными скандалами. Уделяя преимущественное внимание великим, Богомолов с той же тщательностью и ответственностью изучает относительно малые литературные объекты, при этом несоразмерность анализируемых величин никак не сказывается на исследовательском методе.
Рядом с Кузминым и Ходасевичем, изданными в «Библиотеке поэта», можно поставить им же подготовленный том, включающий практически полный корпус стихотворений Александра Тинякова (1998; 2002 – 2‐е изд., дополненное и исправленное), в том числе многочисленные тексты, извлеченные из архивов, – поэта, имевшего заслуженно одиозную репутацию, но тем не менее исключительно выразительного и своеобычного в своем эпатирующем «апофеозе беспочвенности». Теперь, после того как усилиями Богомолова Тиняков вырисовывается в полный рост, ясно, что многоликая панорама русской поэзии начала ХХ века без этой колоритной фигуры страдала бы неполнотой.
Внимание исследователя к литераторам второго и третьего ряда сказывается на протяжении всего его творческого пути. Оно проявляется и в подготовке отдельных изданий их сочинений – от Константина Большакова до Моисея Бамдаса, – и в изыскании их неопубликованных или затерянных произведений (например, «Беломорские стихи Игоря Терентьева», 1996), и в новых подходах к интерпретации творчества писателей с закрепившейся в истории литературы однозначной оценкой.
Так, в статье «Сергей Ауслендер: стилизация или стиль?» (2009) он пересматривает многократно повторенные суждения об Ауслендере как мастере «стилизованного» письма и предлагает новый, убедительно обоснованный подход – видит в его опытах прежде всего практическую реализацию принципа «прекрасной ясности» Кузмина и следование тематико-стилистической традиции его же «светской» прозы. Н. А. Богомолов также проводит неожиданную аналогию между текстами Ауслендера и стилевой палитрой прозы 1920‐х годов, использованной некоторыми из «Серапионовых братьев», – аналогию, может быть, не очевидную, но стимулирующую к дальнейшим наблюдениям. Неожиданным может показаться и указание на символистский пласт в советском приключенческом романе Мариэтты Шагинян «Месс-Менд» («Авантюрный роман как зеркало русского символизма», 2002), но и в данном случае аргументация аналитика такова, что неожиданное предстает самоочевидным.
Выявление новых аспектов в известном и ранее осмысленном восполняется в творческой практике Н. А. Богомолова и обращением к новым темам, не замечавшимся историками литературы в советские годы. Прежде всего это, конечно, интерес к оккультной, «тайноведческой» проблематике и ее отражениям у Брюсова, Гумилева и других авторов. Работы, затрагивающие эти сюжеты, объединены в книге «Русская литература начала ХХ века и оккультизм» (1999); она же включает «маленькую монографию» об А. Р. Минцловой – визионерке, сыгравшей исключительную роль в духовных исканиях М. Волошина, Вяч. Иванова, Андрея Белого, Э. К. Метнера и других выразителей символистского самосознания. Выстраивая свое повествование о Минцловой почти целиком на впервые вводимых в оборот архивных материалах, исследователь заполняет одно из множества белых пятен на российской культурной карте.
Установка автора и в этой книге, и во всех остальных предполагает максимально детализированное и углубленное постижение исследуемого объекта и в то же время «далековатую» по отношению к нему позицию (ср. заглавие его сборника «Сопряжение далековатых»). «Далековатое» – дистанцированное, эмоционально нейтральное, объективное вплоть до программного объективизма, исторически позиционированное и выверенное отношение к именам, явлениям и фактам, оказывающимся в сфере исследовательского внимания. Н. А. Богомолову не близка магнетическая привязанность, наблюдающаяся у известной части литературоведов и иных занимающихся литературой сочинителей, к «любимым», интимно близким поэтам или прозаикам, которым они готовы выражать на бумаге безраздельное восхищение и едва ли не маниакальную преданность. (Николай Алексеевич не раз признавался мне, что с особенным увлечением изучает Кузмина и не устает им заниматься, но в этой особенности, конечно, не дань прихотям индивидуального вкуса или любовная завороженность объектом анализа, а прежде всего способность данного автора стимулировать и порождать у исследователя всё новые и новые темы и интерпретации.)
Общие методологические подходы, которыми руководствуется наш юбиляр, не содержат в себе ничего специфического – это всего лишь критерии, которым обязаны соответствовать любые дискурсивные построения, претендующие на доказательность и объективный смысл. Н. А. Богомолов их четко и внятно сформулировал в «Заметках о песнях Булата Окуджавы»:
1) внимание к хронологии творчества;
2) представление о круге источников, доступных писателю в то или иное время;
3) отчетливое понимание социокультурной ситуации, в которой писалось и публиковалось (если эти два момента не совпадают) произведение;
4) осознание того, что твои собственные (исследователя) интересы и пристрастия вовсе не обязательно совпадают с интересами и пристрастиями исследуемого автора;
5) отказ от следования тобой самим или предшественниками придуманным схемам, если материал им противоречит; и, наконец,
6) непредвзятое чтение текста1.
Совокупность этих критериев Н. А. Богомолов определяет как «филологическую гигиену», и излишне говорить, что сам он неукоснительно следует им во всех своих писаниях.
Однако предложенный свод незатейливых обязательных условий – «простое как мычание» – зачастую не является имплицитным руководством к действию для многих авторов, пишущих на историко-литературные темы. Нелицеприятной оценке подобных трудов Н. А. Богомолов уделил немало своего времени и творческих усилий: огромную часть его трудового «послужного списка» составляют обзоры книжных новинок и рецензии, свидетельствующие о том, что в поле его зрения попадают едва ли не все регистрируемые Книжной палатой издания, относящиеся к сфере его профессиональных интересов. В исполнении этой неблагодарной миссии нельзя не видеть проявление подлинного альтруизма: меня, во всяком случае, его своевременно публикуемые отзывы избавляют от необходимости самостоятельно осваивать изрядную долю поступающей на книжный рынок печатной продукции, и знакомство с содержанием новых номеров «Нового литературного обозрения» я неизменно начинаю с книжных обозрений Богомолова (в последние годы выделенных в особую рубрику «В книжном углу»). Особенности Богомолова-рецензента – лаконизм, четкая аргументация, безупречность доводов, верность принципиальным установкам и беспощадность при уличении в небрежении «филологической гигиеной».
Эта введенная им формулировка предполагает, помимо следования приведенным выше шести пунктам, и свободное владение базовыми основами, на которых зиждется любая профессионально выполненная филологическая работа, – текстологией, источниковедением, библиографией. Прекрасно пользуясь инструментарием этих дисциплин, Н. А. Богомолов внес свой личный значительный вклад в их практическое применение.
Среди его текстологических разработок – публикация и анализ рукописных редакций программной статьи Брюсова «Ключи тайн» («К истории „Ключей тайн“», 2007), публикация – точнее, реконструкция связного текста из хаотического комплекса рукописных листов – пьесы Л. Д. Зиновьевой-Аннибал «Певучий осел» (1993) и множество других публикаций, если и не столь сложных по исполнению, то поражающих широтой и многообразием сюжетов и лиц.
Среди библиографических трудов Богомолова – подготовка двух изданий исключительной значимости: «Писатели современной эпохи. Биобиблиографический словарь», т. 2 (1995) (публикация по архивному источнику второй части словаря, первая часть которого была издана под редакцией Б. П. Козьмина в 1927 году) и «Материалы к библиографии русских литературно-художественных альманахов и сборников. 1900–1937» (1994). Последнее издание дает библиографическое описание книг, не учтенных в четырехтомном указателе «Литературно-художественные альманахи и сборники» О. Д. Голубевой и Н. П. Рогожина (1957–1960) – одном из основных библиографических подспорий для историков русской литературы первой трети ХХ века. Том, составленный Богомоловым, включает роспись 445 изданий, оставшихся за пределами фундаментального четырехтомника, – результат упорного, неустанного труда, наглядно свидетельствующий о глубоком и всестороннем освоении автором литературного процесса изучаемой эпохи в ее мельчайших деталях.
Доскональное знание «мельчайшего» в его бесконечной совокупности сочетается у Н. А. Богомолова с умением разрабатывать самую общую историко-литературную и теоретико-литературную проблематику. На протяжении десятилетий он – перегруженный административной работой университетский профессор, преподаватель, постоянно читающий лекции и ведущий практические занятия со студентами. Как в таких обстоятельствах удается быть еще и автором десятков книг и сотен статей, я понять и истолковать не в состоянии: это что-то за пределами естественных человеческих возможностей.
Практика преподавания нашла свое место и в общем библиографическом списке трудов Н. А. Богомолова. В нем значатся книги: «Строки, озаренные Октябрем. Становление советской поэзии (1917–1927)» (1987) – официальное демагогическое заглавие, предписанное инстанциями в пору только начинавшейся «перестройки» (в дарительной надписи автор просил меня «помнить, что в „память жанра“ книги входят все предшествующие труды, изданные Учпедгизом»), контрастировало со спокойным, объективным описанием десятилетней истории поэзии в переломную эпоху; «Стихотворная речь» (1995) – доступно и даже увлекательно изложенные основы стиховедческой культуры; «Журналистика русского символизма» (2002) и «Печать русского символизма» (2012) – столь же популярно преподнесенные сведения о важнейших параметрах литературной жизни рубежа XIX–XX веков. В этом ряду оказываются и обобщающие работы, выполненные в «академической» традиции, – пять разделов в двухтомной «Русской литературе рубежа веков», изданной Институтом мировой литературы (2000–2001).
Последняя вышедшая в свет книга Н. А. Богомолова «Бардовская песня глазами литературоведа» (2019) отражает еще одну сторону исследовательских интересов автора, находящуюся отнюдь не на периферии других его профессиональных занятий. В данном случае опыты истолкования «звучащей поэзии», осуществленные, как всегда у Богомолова, на безупречном научном уровне, стимулированы глубокой увлеченностью своим предметом, пробудившейся еще в юношеские годы (много автобиографических подробностей об этом автор сообщает во вступительных разделах к книге); написаны статьи о Б. Окуджаве, В. Высоцком, А. Галиче более раскованным, свободным, импровизационным стилем, чем большинство его работ на темы, отодвинувшиеся вглубь литературной истории. Эти работы продиктованы остротой и полнотой сиюминутного переживания – хотя дотошный филолог-историк не устает фиксировать в звучащих (и уже отзвучавших) текстах характерные приметы своего, отчасти прошедшего, отчасти затянувшегося или возродившегося времени. В центре внимания здесь, конечно же, Галич: еще в 1989 году Богомолов опубликовал его «Избранные стихотворения» – первый сборник поэтического наследия автора, увидевший свет на его родине.
И последнее. Работы Н. А. Богомолова, какие бы тонкие и прихотливые материи они ни затрагивали, отличаются языком и стилем, доступным не только филологу-профессионалу, но и любому культурно ориентированному и заинтересованному читателю. Умение писать просто и убедительно о сложном и малопонятном – явленная здесь характерная черта большого мастера, унаследованная от классиков отечественного литературоведения.
Часть I
У истоков русского модернизма
Майкл Вахтель (Принстон)
«STARRES ICH» ИВАНА КОНЕВСКОГО
ИСТОЧНИК И СМЫСЛ ЗАГЛАВИЯ
В своем творчестве Иван Коневской предвосхитил многие тенденции, достигшие расцвета только в позднейшем русском символизме. Его глубокое погружение в немецкую культуру сближает его не столько с восхищавшимся им Валерием Брюсовым, сколько с «младшими символистами» и прежде всего с Вяч. Ивановым. Не удивительно, что сам Иванов назвал Коневского одним из своих предшественников2.
Настоящая заметка касается лишь одного свидетельства германофильства Коневского – сонета «Starres Ich». Само название этого стихотворения прямо отсылает к немецкой традиции. Однако в литературе о Коневском до сих пор не был найден его источник и соответственно не был поставлен вопрос о значении последнего.
STARRES ICH
С. П. Семенову
Проснулся я средь ночи. Что за мрак?
Со всех сторон гнетущая та цельность,
В которой тонет образов раздельность:
Все – хаоса единовластный зрак.
Пошел бродить по горницам я: так…
В себе чтоб чуять воли нераздельность,
Чтоб не влекла потемок беспредельность,
Смешаться с нею в беспросветный брак.
Нет, не ликуй, коварная пучина!
Я – человек, ты – бытия причина,
Но мне святыня – цельный мой состав.
Пусть мир сулит безличия пустыня —
Стоит и в смерти стойкая твердыня,
Мой лик, стихии той себя не сдав.
Как полагается, сонет Коневского четко делится на две части. В октаве доминирует физическое пространство, а в секстете метафизическое. Если в октаве поэт пробуждается среди ночи и старается ориентироваться в темноте, то в секстете домашний фон отпадает и заменяется пространством всего мироздания, где поэт, сталкиваясь с хаосом, провозглашает цельность своей личности.
В короткой жизни Коневского стихотворение печаталось дважды, что уже указывает на то, что сам поэт приписывал ему особое значение. Дж. Гроссман, автор единственной до сих пор монографии о Коневском, уделяет особое внимание именно этому сонету. По ее словам, поэт в конце сонета «решительно отстаивает свою личность перед силами и соблазнами хаоса и даже смерти»3. И хотя исследовательница подчеркивает центральность этого сонета для всего мировоззрения поэта, в подробном разборе она ни разу не поднимает вопрос о заглавии – и даже не переводит его.
В изданиях произведений Коневского редакторы верно переводят заглавие «Starres Ich» как «непреклонное Я», однако не ставят вопрос о его происхождении4. Таким образом неискушенный читатель может легко прийти к заключению, что «Starres Ich» – некий terminus technicus, часто встречающийся в немецкой философской литературе. Однако дело обстоит гораздо проще. Словосочетание «Starres Ich» такое редкое, что можно со стопроцентной уверенностью указать на единственный возможный источник – поэму «Фауст» австрийского поэта Николауса Ленау (1802–1850).
В свое время Ленау был знаменитым поэтом, певцом «мировой скорби» («Weltschmerz»). Его мрачная лирика вызывала интерес не только в немецкоязычных странах, но и в России, где она оставила заметные следы5. Начиная с Жуковского стихотворения Ленау переводились на русский язык, причем в числе его поклонников были поэты совершенно разных направлений, включая символистов (среди них был и В. Я. Брюсов, главный пропагандист творчества Коневского), А. В. Луначарского, переведшего всего «Фауста» Ленау, и Б. Л. Пастернака, поставившего стихи Ленау эпиграфом к своей эпохальной книге «Сестра моя – жизнь».
В рабочих тетрадях Коневского в 1895–1896 годах имя Ленау появляется многократно. Оно встречается в длинном перечне «мыслителей, разрушивших для меня материализм и утвердивших во мне уверенность в бессмертии души» и в коротком списке «любимых поэтов» (вместе с Ф. И. Тютчевым, А. А. Фетом, П. Б. Шелли и Ф. Вьеле-Гриффеном)6. Сонет «Starres Ich» был написан летом 1896 года, т. е. именно в то время, когда Коневской особенно увлекался творчеством Ленау.
Вряд ли стоит удивляться, что «Фауст» Ленау привлек внимание Коневского. В том же документе, в котором зафиксированы имена его любимых поэтов, есть и рубрика для любимых поэм. Коневской называет всего две, правда, обе они скорее пьесы, чем поэмы: «Фауст» И. В. Гете и «Пер Гюнт» Г. Ибсена. Другими словами, если «Фауст» Гете имел такое существенное значение для Коневского, то трактовка образа Фауста его любимым поэтом не могла не заинтересовать его.
Вторая часть гетевского «Фауста» была опубликована посмертно в 1832 году. По-видимому, это событие послужило творческим импульсом для Ленау, уже за десять лет до того думавшего о создании своего «Фауста». В 1833 году он начал писать свою версию, сперва увидевшую свет в 1836 году и в переработанном виде с дополнениями в 1840 году. Некоторые современники считали, что молодому поэту не следовало бы конкурировать со светилом европейской культуры. В ответ на эти сомнения Ленау в частном письме 1833 года объявил, что Гете не имел «монополию» на тематику Фауста, что она принадлежит всему человечеству7. В том же письме Ленау определил свое произведение как «рапсодию»8. Музыкальный термин здесь не случаен: Ленау слыл первоклассным скрипачом. Он также указывает на отсутствие четкой структуры произведения, подчеркивая, что эта поэма – собрание отдельных сцен, а не целостный текст, где все части органически связаны друг с другом9.
Со времен Гете фигура Фауста понималась уже не как образ традиционного злодея, а как общий символ человечества, стремящегося к «бытию высочайшему»10. В этом духе надо понять и стихотворение Коневского. Лирическое «я» здесь не кто иной, как современный человек, борющийся за свое место во вселенной.
В «Фаусте» Ленау словосочетание «starres Ich» появляется лишь один раз, в сцене «Разговор в лесу» («Waldgespräch»), написанной в 1840 году для второго издания. Мефистофель уговаривает Фауста отказаться от религии и природы, чтобы утвердить собственную личность. Приведем финал этой сцены:
FAUST
Behaupten will ich fest mein starres Ich,
Mir selbst genug und unerschütterlich,
Niemandem hörig mehr und unterthan,
Verfolg’ ich in mich einwärts meine Bahn.
MEPHISTOPHELES
Ich aber diene dir als Grubenlicht.
FAUST
Bin ich unsterblich oder bin ich’s nicht?
Bin ich’s, so will ich einst aus meinem Ringe
Erobernd in die Welt die Arme breiten,
Und für mein Reich mit allen Mächten streiten,
Bis ich die Götterkron’ aufs Haupt mir schwinge!
Und sterb’ ich ganz – wohlan! So will ich’s fassen
Nicht so, als hätte mich die Kraft verlassen,
Nein! Selbst verzehr’ ich mich in meinem Stral,
Verbrenne selbst mich wie Sardanapal,
Sammt meiner Seele unermess’nen Schätzen,
Mich freuend, dass sie nimmer zu ersetzen!11
В переводе Луначарского соответствующие строки звучат так:
ФАУСТ
Хочу лишь утверждать лишь Я одно:
Всегда довлеть себе должно оно;
Я никому не подчинен отныне,
Свой путь найду я в мировой пустыне.
МЕФИСТОФЕЛЬ
Я ж буду путеводною звездой.
ФАУСТ
Бессмертен я, иль смертен гений мой?
Коль смерти нет мне, то над всей вселенной
Простру я руки, буду воевать
За мир с богами, с мощью несравненной
Корону мира буду добывать.
А если смертен я – упадка силы
Не стану ждать и не завяну хилый,
О нет! Но я, как царь Сарданапал,
Сожгу себя в огне моих стремлений
С сокровищем души: тогда б я знал,
Что уж навек не заменим мой гений!12
В контексте поэмы Ленау такие высказывания Фауста отражают не столько смелость, сколько спесь, что в конечном счете ведет к трагической развязке. В отличие от трактовки оптимиста Гете, где, несмотря на многочисленные грехи, Фауст спасается, у пессимиста Ленау герой совершает самоубийство, и произведение кончается монологом торжествующего Мефистофеля.
Думается, что стихотворение «Starres Ich» дает основание предположить, что Коневской читал вышеприведенную речь Фауста в положительном свете. Как это можно объяснить? Как показывает А. В. Лавров, творческий метод Коневского заключался в составлении «книги материалов», служившей поэту своего рода «сырьем» для собственного творчества. В начале своей рабочей тетради Коневской написал: «В эту книгу я записываю все, что в читаемом поражает меня. Поэтому я сюда записываю не только те мысли, которые мне симпатичны, но все вообще мысли, которые мне кажутся замечательными, оригинальными, достойными запоминания…»13. По-видимому, выражение «starres Ich» показалось молодому Коневскому одной из тех поразительных мыслей, которые напрашивались на разработку. Можно предположить, что гибель Фауста – т. е. традиционная концовка драмы, которую мы находим и у Ленау, – не так поразила Коневского.
Вписал ли Коневской в свои рабочие тетради монолог Фауста о «непреклонном Я»? К сожалению, в нынешних обстоятельствах у нас нет возможности попасть в архив, чтобы проверить нашу гипотезу. Придется оставить такую возможность будущему исследователю. Впрочем, даже если этот конспект у Коневского не отыщется, можно предположить, что поэт руководствовался таким же творческим приемом, т. е. что он взял одну «поразительную» мысль, отделив ее от остального текста. Другими словами, для поэта всегда были важны наиболее выразительные части поэмы, а не весь текст как целое. В «Фаусте» Ленау, где главный сюжет перебивается всевозможными отступлениями, такой подход строгого отбора оказывается оправдан самим материалом.
В статье об эпиграфах у К. Д. Бальмонта Вл. Марков обнаружил определенный парадокс14. Существуют случаи, когда изучение подтекста углубляет понимание смысла стихотворения. И это неудивительно – на таком предположении зиждется целая отрасль науки, так называемые интертекстуальные исследования. Однако Марков обратил внимание и на такие случаи, когда знание контекста цитаты не только не помогает читателю-интерпретатору, но скорее запутывает его. Нам кажется, что немецкое название стихотворения Коневского служит примером обеих намеченных Марковым тенденций. С одной стороны, очень важно, что слова «Starres Ich» принадлежат Фаусту, воплощению современного человека во всей его сложности. С другой стороны, не надо думать о том, что у Ленау Фауст погибает после того, как произносит эту дерзкую речь. Внутри одной сцены слова Фауста можно трактовать как защиту целостной личности перед угрозой со стороны окружающего ее мира. В то же время в общем контексте концовки поэмы такое героическое представление оказывается ложным. Но Коневской поступает как поэт, а не как литературовед. Помнил ли он заключительную сцену «Фауста» Ленау или нет – вопрос уже второстепенный. Главное не в сюжете Ленау, а в творческом подходе самого Коневского, взявшего меткое и запоминающееся выражение и истолковавшего его соответственно своим художественным и философским соображениям. В стихотворении русского поэта «Starres Ich» – уже не высказывание отчаяния героя чужой поэмы, а выражение положительного убеждения самого Коневского, что «весь он не умрет».