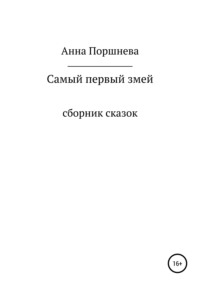Kitobni o'qish: «Самый первый Змей»
Самый первый Змей
Крестьяне обступили богатыря плотной толпой и почтительно, но громко галдели:
– Заступись, отец родной! Не выдай, золота душа! Никакого житья от него нет, от аспида!
Отец родной – смущённый парень лет двадцати с широченными плечищами, крепкими ногами и яблочно-румяными щеками, ещё безбородый, – шмыгал носом и для уверенности поминутно щупал то ножны, то рукоять меча. Его голубые глаза восхищённо блестели. Ещё бы, не каждый же день такое бывает.
– Вчерась трёх овец стащил. Девкам в озере ни искупаться, ни белья сполоснуть – озорует, охальник. Детишков в лес одних не отпускаем. Пашаницы запрошлый год два поля полегло, не иначе, дыхнул дымом, змей ядовитой.
– Земляники пять годов не едывали, – зашамкали старухи, но их тут же перебил уверенный голос старосты:
– Да погодьте вы со своей земляникой! Ну, добрый молодец, берёшься или как?
– Берусь, – вздохнул богатырь и шмыгнул носом. Это был его самый первый змей.
– Ну тогда иди себе: тут всё прямо, прямо, а потом налево, да кругом. В общем, одна дороженька-то, не заплутаешь. А мы тебя за то не выдадим, вознагражденье получишь, как положено, не обидим, не бось!
***
Богатырь стоял за калиновым кустом, тяжело дышал от восхищения и даже рот открыл – прямо перед ним на широкой поляне лежал змей горыныч о трёх головах. Весь золотисто-алый, с багряными крыльями, с тонкой серебристой искрой по шее и на бёдрах, с длинным шипастым хвостом и круглым пузом, в которое не то что три овцы, а и тридцать три поместятся вольготно.
Змей выпускал из всех трёх голов длинные раздвоенные языки, словно лопатой сгребал ими земляничины и отправлял разом в три глотки, потом чуть сдвигался, приминая когтистыми страшными лапами листья и усы, и всё повторялось. Над поляной стоял сладкий жаркий дух, у добра молодца кружилась голова и самому хотелось сочной ароматной ягоды – ух как хотелось!
Змей, наконец, отвалился, перебрался к краю леса в тенёк, завалился на бок и сказал протяжным мягким голосом:
– Воевать пришёл али просто любопытствуешь?
– А вот сейчас тебе, змеище поганый, башку снесу, так узнаешь как людёв обижать! – вскричал богатырь, как полагается, грозно и для убедительности взмахнул булавой.
Змей аккуратно прикрыл головы берёзовой кроной, пригнув её одним из крыльев, и обиженно сказал:
– Что ж это я поганый? Я моюсь кажный вторник, а если б не девки здешние бесстыжие, что за мной из кустов подсматривают, и чаще мылся бы.
– А овец почто таскаешь?
– Да не таскаю я.
– Люди зазря не скажут.
– Да не нужны они мне. Я мяса в рот не беру: у него дух тяжёлый и жевать его долго. Да у меня и клыков нет, на, смотри! – И точно, зубы у змея были ровные крепкие и крупные, точь-в-точь как у коня.
Богатырь вспомнил круглое хитрое лицо местного пастуха и призадумался.
– А пшеницу зачем спортил?
– Так то ж они сами! Ленивы больно, вот и дождались дождей. Встали бы жать дня на три раньше, были б с хлебом.
У молодца оставался последний довод:
– А землянику зачем поел?
– Вкусная, – вздохнул змей и от смущения позеленел. – Люблю, страсть! Да сам спробуй, ведь не ягода – чистый мёд. А крупная какая! Здесь ещё не так, а вот глубже в лес есть сосновая рощица, так там в три раза супротив этой, ей-богу, не вру!
Богатырь вздохнул, набрал в ладонь ягод, запустил в рот и зарделся от удовольствия.
– Угу, – сказал с набитым ртом, – и што же мне ш тобой делащ? Ты ведь, как никак, змей горыныч. Мне с тобой биться-рататься полагается.
– А сколь лет тебе?
– Двадцатый пошёл.
– Молодой совсем, вот и горячий. А мне вот триста тридцать первый. Мне драться уже совсем не хочется. Так что извиняй, не выйдет у нас поединка.
– Как так не выйдет? – возмутился богатырь.
– А так. Улечу куда подальше да и всё. Давно хотел, уж больно крестьяне тут жадные.
– Как же честь? Ведь ты ж тогда трус получаешься.
– Не, – подумав, сказал змей, – я не трус. Я просто ягоду очень люблю. А драться не люблю. И тебе не советую.
Полон
Затеял как-то Змей полон городить. Наворотил камней гору, чтоб было куда полон тот сгонять, глиной щели подмазал, чтоб не простудились полоняне, вокруг ёлок погуще повтыкал да крапивы наростил, чтоб сбежать не пытались. Потом денёк- другой отдохнул и подался по окрестным деревням девок в полон собирать.
Слухи поползли по русской земле: мол завёлся лютый змей-ворог, и ничем от него, супостата, не откупишься, окромя самой красивой девки, и, как назло, никакого витязя не то, чтобы на коне, а и на печи не видать. Тут крестьяне оживились, стали девок в кучи сгонять, конкурсы красоты проводить. «Эта, – кричат, – самая-самая! Вон у ней и грудь колесом, и глаза на выкате, а сама такая белая да мягкая, идёт – точно лебедь плывёт». «Нет, – отзываются с другого края села, – наша дородней будет, да и коса у ней подлиньше». «А мы что, рыжие, – с выселок раздаётся, – наша девка и собой хороша, а уж какие пироги печёт – от одного духа сытость наступает». Те мужики, у которых семейная жизнь не заладилась, жён своих расхваливают; «Суеверие, – говорят, – это всё, что змеям только девки нужны. Баба, она завсегда и в обращении сподручнее, и в хозяйстве гожа». Замечены были случаи, когда в число девок, как бы ненароком, местные грамотеи тёщ своих приписывали.
В общем, не жизнь настала у Змея, а малина. Знай себе налётывай на деревни да сгоняй полон в пещеру. Только никак не поймёт он, зачем этот полон нужен. Старые змеи далёко – спросить некого. А девки в полоне погрустили-погрустили, поплакали-поплакали, да и принялись на змея пенять.
– Ты почто нас, змеюшка, от отца-матери отнял, и какую-такую лютую долю нам готовишь? Уж нас ли не лелеяли, не холили. Уж мы ли на молоке не выросли, нас ли пирогами да мёдом не выкормили, а каков он, чёрный хлеб, и на погляд не знаем. – Врут всё больше, конечно. Как затеются друг перед дружкой хвастать, сарафанами да шубками похваляться, такой шум поднимут, что у Змея средняя голова гудит, а две боковые инда раскалываются.
Может, так и погинул бы он бесславной смертью, если б не сжалилась над ним баба-яга. Пришла как-то, села в стороне, девьи перебранки послушала да и говорит:
– А есть-то ты их не собираешься, что ли?
– Так на что они мне? Малины вдосталь, черники всякой, морошки опять же.
– Ну так отпусти.
– Не солидно. Обидно – зачем тогда огород городил?
– Ну, тогда ты так поступи. – и нашептала ему в три уха.
Наутро утихомирил кое-как змей полон свой и объявил:
– Так оно, значит, вот что. Проголодался я. Сходите-ка вы, девки, по лесу прогуляйтесь, свежим воздухом напоследок подышите, спелых ягод поешьте, для скусу, значит, а на вечерней заре возвращайтесь: я пировать буду.
Свернул пару елей в сторону, крапиву лапой примял, и проход для девок соорудил. Те рванули, только босые пятки и мелькают в воздухе. Ни одна к вечерней заре не вернулась.
А Змей, полон свой по камешку разбирая, думал: «Какие всё-таки у нас девки в русской земле – и красивые, и смекалистые. Должно быть, от того, что мы, змеи, девок не едим почём зря, как драконы энти заморские. А то ещё в Египтах видал: возьмут какую, скрутят, да крокодилам и швыряют. Одно слово, дикари. Не понимают: коли она красавица, так у неё и детушки хороши будут».
Не знал Змей, что это естественный отбор называется. Не учён был, так, своими умами до всего доходил.
Змей на зимовье
Смолоду-то Змей романтиком был. Мечтал легкокрылой беспечной бабочкой над цветами порхать или быстрым говорливым ручьём по камням бежать, или пышной рябиной по осени развеситься и дразнить пролетающих птиц яркими красными ягодами. Прослышал как-то про зиму и размечтался (вообще-то был он перелётным змеем и проводил зимы в пышных джунглях, поедая разнообразные на вид, но однообразно студенисто-сладкие тропические фрукты), как будет по снегу топать и следы оставлять, как снежную крепость слепит и сам её штурмом возьмёт, как вода станет твёрдой и гладкой, и по ней можно будет ходить, аки по суху, как снежинки будут падать, прекрасные, словно цветы, только маленькие совсем, и как они таять будут на шкуре, стекая блестящими капельками, как деревья покроются серебром, как с широких сосновых веток будут свисать сосульки, а он их языком лизать станет… В общем, размечтался.
И никуда по осени не улетел.
Красиво было. Были золотые листья и багряные листья, и охристо-коричные листья и лимонно-жёлтые. И все они трепетали, звеня, на ветках, кружились в воздухе, с шелестом стелились на землю и, шурша, умирали. Были грибы, разные, много, вкусные. Были новые неведомые ягоды, кислые, а лакомые – клюква и брусника. Их осторожно сбирать надо было, летя низёхонько над опасными болотами и склёвывая на лету. Были первые снежинки – пушистые и все разные, пахнущие водой и воздухом, щекотящиеся на языке и безвкусные, дивно красивые и все разноузорчатые. Были искрящиеся колючие ветки по утру в розовом восходном солнце, когда дух захватывало не то от восхищения, не то от мороза.
Холодно было. От вечной сырости разболелись колени на задних лапах и основания крыльев. Потом в носу ещё свербило, и несколько дней вместо огня плевался он какой-то зелёной мерзостью. У левой головы в ухо стреляло, а правая потеряла голос. Но он оклемался: наворотил себе снежную гору с пещерой, забрался внутрь, головы все под себя и отогрелся.
Голодно было. Ел хвою (ничего себе), рябиновые ягоды (годятся) и подснежную клюкву (сладкая). Пробовал ветки есть и кору, как зайцы делали, не понравилось. Шишки лущить не получилось. Но многолетние запасы не давали пропасть – спал лишь совсем немного с тела, да только лучше вышло: и летал быстрее, и бегал сноровистей. А в пещерке своей, на том месте, где спал, обнаружил свежую зелёную травку и стал следить за ней. Скоро травка поднялась, погустела и запахла нежно и пряно. Змей её лелеял, грел осторожно и любовался. Зайцы прибегали, хотели увоворовать – не дал; волк пробегал, облаял с насмешкой – не обратил внимания; медведь вылез, заспанный, лохматый, сел неподалёку, голову лапами обхватил и весь день качался, а к вечеру исчез – зачем приходил, не понятно было.
Два дня непонятно было, на третий вернулся, почему-то на задних лапах и почтительно привёл под руку сморщенную старушку. Старушка к Змею подошла, хоромину его клюкой потыкала, по спинным пластинам броневым ногтём пощёлкала, на зелёную травку острым глазом цыркнула и спросила медведя:
– Он, что ль?
– Они, – почтительно сказал медведь, – обижают. Спать не дают. Весь день над башкой бум-бум-бум. А ночью храпеть принимается.
Старушка потрясла головой, отступила шагов на десять, вперила правый глаз в переносицу левой головы, а левый аккурат в промежуток между средней и правой.
– В моём лесу, – сказала грозно, – так озорничать не положено. Ежели ты трава, так расти летом, а зимой спи под снегом. Ежели ты змей, так живи по холоду в дальних странах, не шатайся без толку по лесу, не лишай малых птиц пропитания.
– Я же ненарочно. Я хотел посмотреть.
– Посмотрел? – спросила старушка мягким голосом и вдруг по разбойничьи свистнула. Тут неведомо откуда прямо с неба пали рядом с ней ведро огромное каменное и метла раза в два выше её росту. Старушка с тем же посвистом в ведро запрыгнула, метёлкой взмахнула, и раз – этой самой метёлкой сверху уже Змея по головам охаживает. Тот обиделся, стал огнём брызгать, да вёрткая старушка не даётся, только подсмеивается. Пришлось на крыло подниматься. Полтора дня без продыху гнала ведьма лесная Змея на юг, да всю дорогу ворчала на него и ругалась всячески, что нет у него никакого уважения ни к обычаям старинным, ни к пожилым женщинам. Потом отстала.
Когда Змей вернулся, в мае уже, он пробовал найти на полянах место, где выросла среди зимы травка. Да не смог – позабыл запах её за долгую зиму.
Как Змей худел
Как-то раз увидал Змей высоко в небе дракона заморского, стройного, как сосна, прямолетящего, как стрела, стремительного, как стриж. Потом опустил головы вниз и увидел на земле свою тень: пузатую, бултыхающуюся из стороны в сторону, как объевшаяся утка, с тремя головами в разные стороны разлапившимися… И загрустил.
Загрустил, задумался и надумал похудеть. Пришёл к Бабе-Яге травку какую просить или зелья, чтоб есть не хотелось. Ну, Яга, конечно, как старушка учёная, стала Змею разъяснять, что раз он всю жизнь грибами да ягодами питается, то есть он травоядное существо, а такому существу брюхо самой природой положено. Но Змей на своём стоит, наседает, не даёт проходу: вынь да положь ему чудодейственное снадобье.
– Ладноть, – Яга говорит, – будет тебе питьё. – И тащит из подвала бутыль с вонючей болотной гадостью. – А вот сейчас тебе рецептик напишу.
И написала, а там значится: по три капли величиной с куриное яйцо в каждую голову три раза в день. Принимать строго после однолетней ярки.
– А ярка, она что такое? – хлопает глазами Змей.
– Ярка она овца, которая не котилась ни разу. – Змей опять глазами хлопает. – Ну, у которой ещё ягнят не было.
Полетел Змей к стаду, ярку искать. Он-то по простоте душевной думал, что на овце сверху бирка прикреплена, а в бирке той прописаны и пол, и возраст, и отец с матерью. В общем, документ. Оказалось, однако, иначе. Два дня бился Змей, пока научился овцу от барана отличать. На пятый день кое-как нашёл одну, которая молоком не пахла. Ну, думает, видать она, ярка. Стал над ней кружить, пытаться её мелкими огненными плевками от стада отбить. Овца орала диким голосом, дрыгала ногами и только жалась ближе к своим.
Змей и так изворачивался, и эдак, пару раз сам себе хвост подпалил, разок шеями в узел завязался, еле выпутался, потом овцу и вовсе потерял, потом снова нашёл, потом с устатку спал двое суток без просыпу и снова ярку свою потерял. Потом смотрит в ручей: морды вытянулись, живот подобрался, крылья окрепли, а в глазах блеск голодный появился. И тут только понял Змей, что уж две недели не ел, только воду, разгорячённый после охоты, глотал жадно. Вот и похудел. А ярку он так и не добыл себе, да и зелье посеял где-то во всей этой суматохе.
Змей и сарацин
Однажды, когда Змей зимовал в далёкой стране Марокко, к нему пришёл рыцарь-сарацин и вызвал его на поединок. Змей в это время как раз спелое финиковое дерево от плодов очищал и косточками поплёвывал. В общем, занят был делом приятным и не обременительным, а посему вежливо поинтересовался, отчего это сарацин не воюет с христианнейшими испанскими монархами за Гранаду, а шляется по магрибским землям и мирных драконов задирает.
– Ты, – вскричал грозно рыцарь, потрясая дамасским клинком, – исчадье ада, порождение Сатаны и одним своим видом поганишь стройный образ мира и нарушаешь божественную гармонию.
– Ничего я не нарушаю, – обиделся Змей, главным образом на слово "стройный", потому что усмотрел в нём намёк на своё немаленькое брюхо. – И совсем я не порождение Сатаны. И если б ты хоть немного задумался, то понял бы, что такому недалёкому существу, как Сатана, ни за что не придумать дракона, создание изящное, трепетное и противоречивое.
– Уж не думаешь ли ты, что Сатана глуп? – вскричал поражённый сарацин.
– А то нет, – перебираясь к соседнему финиковому дереву, продолжал Змей. – Посуди сам: ведь вы, люди, считаете, что он обиделся на бога за то, что тот больше любил людей, чем ангелов.
– Это всем известно.
– Можно подумать, что теперь бог его любит больше.
Сарацин задумался, а потом, выхватив кривой кинжал, воскликнул:
– Я вырежу твоё лживое сердце! – и бросился на Змея.
Одним движением лапы Змей поверг рыцаря на землю, аккуратно схватил его поперёк туловища и поднялся над землёй. Он понёс его к покрытым снегом горам, что виднелись на севере, а земля под ними, покрытая зелёными пятнами оазисов и белыми городами, жёлтыми песками и голубыми водами, была удивительно прекрасной. Сарацин был неробкого десятка и всматриваясь в окружающий мир вдруг понял, что он круглый. Открытие это так потрясло его, что он тут же поделился им со Змеем.
– Я вижу это каждый день, – сказал Змей. Воздух создавал лёгкие вихри вокруг его мощных крыльев, и он улетал всё дальше и дальше на север. Так летели они, и странные мысли рождались в голове человека. И виделись ему пещёры, полные сокровищ, охраняемые свирепыми дэвами прекрасные девственницы, гнёзда гигинтских птиц рок высоко в горах и волшебные ларцы, в которых можно было спрятать пол мира, и шапки-невидимки представлялись ему и сапоги-скороходы, и хитроумные служанки, и сосуды с заточёнными в них джиннами…
Где-то вблизи небольшого селения оставил Змей сарацина, и тот пошёл своей дорогой. И было ему до смерти жаль, что он потерял коня, который достанется теперь какому-нибудь кочевнику или караванщику, а про то, что земля круглая, он уже и не вспоминал.
Семечки
В молодые годы Змей озоровать любил. Иногда чудесным образом. Грянется об землю всем телом, оборотится добрым молодцем и айда в деревню девкам мозги пудрить. Или ещё любил перекинуться каким-нибудь Васильем иль Ивашкой деревенским и на завалинке с парнями семечки пощёлкать, о жизни поговорить. Сидит так солидно и рассуждает важно о том, что овсы уродились хороши, а рожь – не очень, что пора уже под озимые пахать, что лошадь пошла не та, что по всем приметам зима будет снежная и долгая, что хомуты бы надо поправить… Сидит, семечки щёлкает, незаметно дым ноздрями пущает и радуется.
Один раз опростоволосился, правда. Засел о бок с Машуткой Анчунтиной в виде Степана белобрысого, нежные речи с ней ведёт, за руку гладит, сушёной малиной угощает. А тут настоящий Степан идёт и грозно так спрашивает (не признал себя-то – зеркал в те поры в деревнях не водилось, да и на что глядеться в зеркала крестьянину-то):
– С кем это ты, Марья, разговоры душевные разговариваешь?
Глянула девка: тут Степан и там Степан. Как заорёт, как завизжит, как кинется в огороды, только пятки босые засверкали. Долго её потом святой водой отпаивали. Ну а Змею со Степаном пришлось даже подраться маленько. Так, до первой крови. И кровь-то у Змея пошла – по носу смазал ему парень. И так оно обидно стало Змею, что он, такой большой да сильный, из-за девки драться должон и по носу получать, так закручинился он, что даже семечки не доел. А семечки-то он любил.
Влюблённый Змей
Однажды Змей влюбился. Ну, влюбился и влюбился, чего уж там. Цветочки, конечно, нюхал. Птичек, конечно, слушал. Шатался, как водится вокруг дома (то есть пещеры) своей возлюбленной и стихи сочинял.
Твои – писал- зелёные глаза
Давно свели меня с ума.
Изящный хвост, стальная пасть…
Позволь к твоим коленям пасть!
Но три прелестных головы
Не смотрят на меня, увы.
И вправду, не везло Змею в любви. Вероятно, потому что вегетарианец был. А среди драконих установилось твёрдое мнение, что без мяса дракон – не дракон. "Нет в нём той силы, понимаешь?…" – шептали они друг дружке на ушко и меряли Змея снисходительными взглядами.
А сила-то была! Змей с расстройства даже заболел. Лежал у обрыва, распластав крылья, и дымил двумя головами, а третьей плевался в пропасть огненными плевками. Подлетела к нему дракониха и говорит:
– Слушай, ты ведь совсем ничего себе ящер, в теле, при зубах и когтях. Оснащён, как надо. Что ж ты мяса не ешь? Если б ел, я б может и улыбнулась тебе ласково.
– Я, – отвечает Змей, – ягоду люблю. Особенно землянику. А мясо не люблю.
– Так правду, что ли, говорят, что путь к сердцу дракона лежит через желудок? Неужто из любви даже не можешь месяц-другой мяса поесть? – заинтересовалась дракониха.
– Любовь – это дела сердечные. А пищеварение тоже надо в порядке содержать, – серьёзно так Змей отвечает, сам чуть не плачет, а на попятный не идёт – принципиальный.
На счастье, дракониха ему попалась любопытная.
– Ну, давай, что ли, свои ягоды, попробую.
Змей прям подпрыгнул от неожиданности, в воздух взвился, кружится вокруг дамы сердца, всем телом дорогу показывает. Приземлились на земляничной поляне. Змей к земле припал, языками ягоду собирает, а сам не глотает – возлюбленную деликатно с кончика языка угощает.
Той вкус, конечно, непривычен, да и запах тоже, но понравилось. "Эх,– думает себе, – попробовать что ли другой жизни. А то всё одно и то же, всю жизнь". В общем, в ту же ночь спал Змей, переплетясь шеями да хвостами с драконихой. Только счастлив он был недолго: недели через две оголодала прекрасная дама и бросила своего возлюбленного ради жирной овечки.
Как Змей яйца высиживал
Змей, конечно, холостяковал. Он, конечно, жил вольно и красиво.Но как-то раз у его порога появилась молодая сердитая дракониха с парой яиц подмышкой.
– Прошлым летом песни мне пел?
– Пел, – потупился Змей.
– На край света унести обещал?
– Обещал, – вздохнул Змей.
– Ночами гулял, земляникой угощал, в пещеру дальнюю на камушки зелёные посмотреть водил?
– Угу, – застеснялся Змей.
– Ну, вот, получай свои камушки. – Протянула яйца, хвостом вильнула и была такова.
Вот не было у Змея печали! Смутно помнил Змей, как выклюнулся он сам, маленький ещё, мягкий и покрытый первым чешйчатым пухом, как увидел солнышко и довольную пасть мамы, и её щекотный плотный язык, которым она чувствительно гладила его спинку… Папу своего Змей представлял плохо. Смутно виделась ему чья-то хмурая зубастая морда и недовольное дымное ворчание из под извивающихся красных усов. А потом папа куда-то исчез. По уверениям мамы улетел на свою родину, навестить многочисленных родственников и лет через дцать точно вернётся. Но Змей так отца и не дождался.
В общем, вспомнил Змей своё детство безотцовое и решил малюток сам вырастить. Нагрёб в кучу сухой травы, веток всяких, соорудил гнездо, яйца в нём утвердил, сам рядом лёг, крылом накрыл и лежит – тёплым боком греет. Три недели высиживал яйца Змей. Утром подскочит, по лесу пролетится, на поле заскочит, наскоро недозрелым овсом с малиной или черникой подкрепится и в пещеру – детушек покоить. Вечером на часок слетает в бор грибов перехватить и снова всю ночь над яйцами колыбельные мурлычет. Воробьи залетали, покружились вокруг, у головы крыльями повертели и смылись. Баба Яга заходила, головой покачала, на ухо шепнула въедливо: "А уверен ли ты, мил дружок, что твоё это? Эх, простота…" и ушла, припадая на костяную ногу. А Змей остался и продолжал высиживать. Устал, издёргался, стал нервный и неспокойный. Но вот однажды на заре зашебуршалось что-то в одном из яиц, зацарапалось и вылезла мордочка узенькая, нежненькая, носиком потянула и пропищала:
– Хоцу есть!
Змей ей и молочка, и творожка, и даже рыбки, у крестьян наворованных предлагал, а мордочка всё:
– Неа! – пищит.
Наконец приволок ей змей морошки – болотной ягоды. Выполз змеёныш из скорлупки, всё пожрал и сказал:
– Вкусно-о-о-о.
– Моё! Родное! – Змей ажно прослезился. Мальчик, кстати, оказался. А второго ещё десять дней ждать пришлось.
Как Змей отцовствовать начал
Позвольте осведомиться, любезные читатели, чтоб вы стали делать, окажись у вас внезапно на руках пара прожорливых горластых младенцев мужеского полу, да ещё и с врождённой способностью летать и изрыгать огонь? Не знаете? Вот и Змей мой не знал. Правда, на счастье его, стояла та летняя щедрая пора, когда и тебе черника, и малина, и морошка, и орехи, а потом в огородах крестьянских капуста с репой сытные да морковка сладкая – воруй, не хочу. И вскоре у Змея такие сытые колобки по пещере катались, за хвост его дёргали, по шеям карабкались, задавали неудобные вопросы и норовили удрать куда-нибудь в лес, где вкусно пахнет болотом и ягодой, что стал он жить их нуждами, радоваться их радостями и печалиться их печалями. И стал замечать, что сынки у него совсем разные.
Первый, старшенький, всё больше съестным интересуется. Где что растёт, когда что вызревает, откуда что берётся. Всё норовит какой новый корешок выкопать или дудку болотную обглодать, и уж рвётся в огороды и поля наведаться. Младший в небо глазеет и мечтает. И тоже вопросы задаёт. Вот целый день и звенит в ушах на два голоса :
– Зачем у жука шесть лапок, а крыльев – четыре?
– Почему червяк со всех сторон одинаковый, а гусеница – нет?
– Крапива злая да, раз она жжётся? А почему тогда молодая не жжётся?
– Почему одуванчики горькие? Почему клевер сладкий?
– А почему огонь лапу обжигает, а пасть –нет?
– Шишки только с одной стороны открываются, да, папа?
– Зачем на лапах столько когтей, они ж не удобные и ходить мешают? Зато они цеплючие и
можно на самое высокое дерево забраться!
– А почему, когда летишь, чтобы повернуть, надо набок наклоняться?
– А если в воздухе перестать крыльями махать, что, так на землю и шлёпнешься? А я пробовал, только они не перестаются, всё равно хлопают…
– А зачем ? А почему? А откуда? А как?
Вот и назвал их Змей Обжоркой и Мыслителем. А до тех пор всё старшим и младшим называл, как-то несерьёзно выходило, не по-драконьему.
Как думать удобней
Задумался как-то Мыслитель, как ему думать удобней. Лёг на пузико, лапками передними голову подпёр – не думается. Сел, хвостом обвился – не думается. На бок привалился, к склону холма прислонился – не думается. Лёг на спину, крылья растопорщив – и вовсе не хочется думать, а хочется дрыгоножствовать и губошлёпствовать. Поднялся под облака, в небо взгляд мечтательный устремил, "ну, – думает, – сейчас начну мыслить. Отчего, – думает, – драконы не летают так, как птицы?" А тут мимо как раз галка какая-то пролетала. "Странно, – продолжает думать Мыслитель, – а вроде и как я летает. Лапки поджала, шею вытянула и крыльями машет-старается". В общем, не выходят умные мысли. Опустился он, грустный, на землю и пошёл к малиннику.
А там Обжорка сидит, обеими лапами кусты к себе наклонил и длинным языком ягоду ловко оббирает. И что-то себе думает интересное.
Медведь страшной
Анютка да Машутка Пряслины по малину в лес пошли. Дело нехитрое, округа тихая, так их родители и не вдвоём отпускали – вместе с другими девчонками деревенскими, – оно и не страшно. Только девки-то – непоседы, за разговором, да за смешком, да за шалостью они вместе с Ольгой Егорьевой в лесу в сторону и ушли. А от Ольги какой прок? Малой ещё и семи годов не стукнуло, сама дитё неразумное. Известное дело, заблудились. Идут по лесу, корзинки волокут, хнычут. Анютка, что по-старше аукать принялась, и вроде как отвечает её кто-то из кустов-то; только странно как-то отвечает: то ли хрюканьем, то ли ворчаньем.
Ну, думают, может какая корова от стада отбилась, так тогда она нас по запаху к пастуху выведет, и идут за хрюканьем. Глаза высохли, споро ножками перебирают, так и вышли на полянку. Да и полянка вроде как знакомая. Вроде как совсем близко уж деревня быть должна. Только тут этот, который хрюкал, что-то в чаще заворотился неловко да и высунулся. Как девчонки заорут, как рванут в какую незнамо сторону! Корзинки, однако, не побросали – волокут на себе дале. Добежали до дому, очухались, сидят, бабке Александре рассказывают:
– Там в кустах медведь страшной. А когти-то! А пасть-то! А хвостище!
– Эт вас, девки, лешой водил, – рассудила бабка Александра.– Потому никак не мог это медведь быть: у медведей хвосты куцые.
А в это время на дальнем пригорке Обжорка отцу рассказывал:
– И вовсе эти люди нестрашные и незлые. Они маленькие и глупые.
Вспомнил тут Змей все ямы с дрекольем, куда он падал и чуть не падал, все сетки, из которых он выпутывался, все доски шипастые, которые на него с сосен валились и ответил:
– Конечно, сынок, люди незлые. Но они – люди.
Змей и чудища человеческие
Стали люди Змея теснить. Уже и на полянке ему в летний полдень не поваляться вволю, и леса его заповедные, древние редеть стали и сжиматься, и шуму-гомону от людей стало больше, а серьёзной напевной речи меньше. Раньше-то Змей частенько вечером к деревне подбирался поближе, ушами своими правыми, острыми да верными, к земле прижимался и слушал, о чём старики на завалинках речь ведут, о чем девки в горницах судачат да о чём парни частушки с перебором и словом лихим припевают. Теперь же опоясались сёла да деревни широкими дорогами, по рекам стали плавать лодки невиданные, агромадные – трудно стало Змею прятаться. Да и то сказать – вырос он за те осемьсот с лишним лет, что на свете прожил, заматерел, правда, от времени будто мхом порос, и не блестит его чешуя больше зелёным перламутром, не отливает красным золотом, а словно серенькое сукно мягкое стала, и даже будто мягче – но только на ощупь, а на деле плотная и крепкая, крепче стали.
Но тут такое случилось, что Змей всю осторожность свою вековую потерял. Люди завели чудищ. Чудища длинные, быстрые – летят над землёй вдали и тысячью глаз горящих на мир смотрят. Чудища поют: когда весёлые – нагло присвистывают, будто дразнятся, когда печальные – стонут жалобно, когда сердитые – ревут на сотню голосов, инда земля дрожит. Поначалу от блеска глаз да пуще от крика Змей побаивался чудищ. А потом приметил: ходят чудища всегда одними и теми же дорогами, видно люди их так приучили, и бояться перестал. А потом разлюбопытствовался и решил на них поближе посмотреть. Раз решил, значит сделал: разведал, где у чудищ логово и когда там люди бывают, подождал, пока июньский туман плотный поднимется, и подкрался к одному из этих, желтоглазых, который почему-то в стороне от других ночевал.