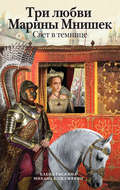Kitobni o'qish: «Суламифь и царица Савская. Любовь царя Соломона»
Анна Листопад
Царь Соломон и Суламифь
Положи меня, как печать, на сердце твое,
как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь;
люта, как преисподняя, ревность;
стрелы ее – стрелы огненные;
она пламень весьма сильный.
Большие воды не могут потушить
любви, и реки не зальют ее.
Песнь Песней
Глава 1. Соломоново царство
Город сверкал в лучах восходящего солнца. Теперь, когда Иерусалим стал центром объединенных Израиля и Иудеи, а с полутысячелетней враждой евреев и египтян было покончено, – здесь развернулась грандиозная жизнь, полная свершений.
О мудрости нынешнего правителя – Соломона – ходили легенды, песни о светлом уме его и проницательности, казалось, долетали до самого неба. Соломон продолжал укреплять государство, доставшееся ему от отца – царя Давида.
Он окружил себя верными людьми, и они помогали ему ведать делами Израиля.
Соломон не был сторонником войн, в особенности затяжных, предпочитая решать международные конфликты дипломатией и сотрудничеством. И не напрасно: мирный труд земледельцев и ремесленников стал приносить огромный доход. Израильские склоны украшали плодородные сады и виноградники, возводились каналы и акведуки, орошавшие засушливые земли. Торговые караваны Израиля вывозили зерно и масло, предметы роскоши, а взамен доставляли золото и серебро, драгоценные камни, бесценное черное и красное дерево, тигровые шкуры и другие экзотические товары, лошадей – которые затем продавались внутри страны и за ее пределами. На берегу Красного моря велась добыча меди и «эйлатского камня».
Армия Соломона обзавелась обширной конницей. При дворе владыки пребывали иностранные послы.
Развернулось великое строительство. Белокаменный город рос и процветал, купаясь в многочисленных источниках и фонтанах. Венцом зодчества должен был стать Храм, который Соломон начал возводить на четвертый год своего правления. Храм задумывался как религиозный оплот объединенного государства, как Дом молений для израильтян и иноплеменников, собирающий под своими священными сводами разномыслящих – и местных жителей, и паломников.
Для отделки стен и внутреннего убранства сюда из Ливана доставлялись драгоценные кедры и кипарисы. Чтобы соорудить величественные колонны, а также для священной утвари привозили медь из собственных копий Соломона. Военные трофеи Давида, торговые связи самого Соломона обеспечивали зодчих серебром. Песчаник добывали и обрабатывали здесь же – тысячи, десятки тысяч израильтян, ханаанеев и финикийцев трудились на Храмовой горе.
Возводились крепости и роскошные дворцы для единомышленников и помощников царя: командующего войсками Ванея и министра налогообложения Адонирама, начальника администрации Ахисара и Азария, главы наместников. Не менее богатыми были жилища первосвященников – Садока, Авиафара и Азария.
Так Соломон укреплял свое государство: создав крепкую армию, активно участвуя в международной политике, выступая за религиозное и культурное единство, поощряя торговлю. Особую популярность приобрел он среди простых жителей: Соломон избегал больших войн, а значит, израильтяне могли мирно трудиться, заводить семьи и не бояться грядущих смертоубийственных и разорительных потрясений.
Была и другая причина все возрастающей славы Соломона: в своем необычайно богатом Летнем дворце он не гнушался общаться с простыми тружениками, торговцами и ремесленниками – устраивая особого рода приемы, на которых вершил суд в делах, требующих вмешательства авторитетного третьего лица: денежные и имущественные споры, семейные распри нередко становились предметом раздумий Соломона. Решение, принятое владыкой, было непререкаемо, слово его было мудрый закон. И чем громче звучала слава о глубоком и всеобъемлющем уме правителя, тем бурливее и беспокойнее становились воды людские, норовившие своими потоками смыть и дни, и ночи Соломона.
Вот и сегодня, несмотря на ранний час, у ворот дворца уже гудела толпа – горожане, считавшие себя несчастными, или обиженными, или обделенными в делах житейских, цветасто-мутной рекой стекались к Соломоновым чертогам. Здесь были бедняки в грязно-серых туниках, едва спасающих от летнего солнца и зноя, приносимого в пышный Иерусалим коварным жарким ветром хамсимом. Здесь были юноши и мужи в пестрых одеждах – по традиции наследники своих отцов носили одежды, сшитые из разноцветных кусков ткани, что, конечно же, в еще большей мере подогревало зависть братьев. Здесь были ремесленники и торговцы в красных, синих, белых, желтых туниках из козьей шерсти: свои халаты они оставили дома, скромно подпоясавшись тонкими ткаными поясами. Это означало, что теперь, без своеобразных складок-карманов, некуда было им класть монеты и украшения. Здесь были женщины – многие из них прятали от беззастенчивых глаз лицо и фигуру под затейливо расшитым покрывалом. Иногда, когда они делали плавные шаги, производили какие-либо жесты, можно было услышать, как звучат их длинные серьги или браслеты на ногах, целомудренно скрытых узорчатой тканью.
Были здесь и дети, сонно или шумно ожидающие своих отцов и матерей, братьев и сестер.
Люди старались занять места поближе к вратам, в тени кипарисов и миртов, или оказаться рядом с фонтаном с пресной водой – сооруженным специально для страждущих слова Соломона.
В шумной людской волне, мозаикой переливающейся на солнце, лишь один человек был недвижим. Когда еще до света первые просители мудрости Соломона пришли к дворцовым вратам, он уже был здесь и ждал, степенно и прочно устроившись у источника, несущего свои быстрые хрустальные воды в высокий фонтан. Это был старик в чистой, но до крайности изношенной тунике – так что даже нельзя было определить ее первоначальный цвет – из козьей шерсти. Чресла его были перепоясаны большим отрезом голубоватой материи. Старик сидел прямо, возложив подбородок на посох, и видно было, что в одежде своей он носит чернильницу и какие-то свитки, завернутые в тряпицу. Любуясь игрой света в недрах холодного ручья, он, как и все, ждал своего часа, когда сможет предстать пред очами Спокойного – так звали Соломона за его рассудительность и мудрое стремление к миру.
И вот настал час суда. Толпа, контролируемая стражниками, хлынула в просторную залу, где ожидала узреть правителя. И те, что уже бывали здесь, а особенно те, кто посещал дворец впервые, ахнули – настолько яркая и торжественная картина явилась их взорам.
Две бронзовые колонны по центру упирались в розовый мрамор пола. Они олицетворяли собой незыблемость Соломонова слова и поддерживали обширный полог из ярко-красной материи, окаймленной сверкающими кистями с жемчугом на конце нитей, словно роса, рассыпавшимся над головами. Выполненный на пологе золотой орнамент изображал животных и растения и означал, что не только судьбы людей, но и природа подвластна царю. Он покорил себе и Израилю моря – торговые корабли израильтян были известны повсюду, где пролегали ведомые и не ведомые соседним странам морские пути. Он покорил себе недра земные – только слуги Соломоновы имели право добывать и обрабатывать медь. Он приблизил к себе небо – и готовился закончить возведение Храма. Он без единой жертвы покорил иностранные державы – при дворе его в роскоши и почете проживали иноземные послы. Он был полон любви, и страсть его не знала границ – новые браки и просто связи создавали ему славу сильного и искусного любовника.
Стены из драгоценного дерева украшали херувимы. Их лики символизировали стихийные силы ночи и дня, зимы и лета, бури, ветра и воды. В бронзовых чашах с неподвижной, словно небесное зеркало, водой мерцали отражения изящных светильников из слоновой кости, инкрустированных красными, синими и зелеными драгоценными камнями, а также пниной – высококачественным белоснежным жемчугом. Сами бронзовые купели покоились на изваяниях тельцов, расположенных в виде звезды.
Небесные стражи с телом быка и ликом человека – облаченные в золото гигантские херувимы – осеняли орлиными крыльями ту часть залы, где находился высокий царский трон, густо задрапированный воздушным пурпурным виссоном.
В потолке и верхней части стен были отверстия, щедро пропускающие свет, так что все помещение было пронизано яркими лучами и не нуждалось в рукотворном огне.
Все здесь имело благородные цвета и очертания, все своим сдержанно-роскошным убранством говорило о величии владыки.
И вот явился пред очи своих подданных сам царь. Высокий, словно ливанский кипарис, стройный, в белоснежном одеянии с золотыми узорами на длинных полах, медленно опустился на трон. Его ноги покоились в мягких сандалиях. Одна рука возлежала на резном подлокотнике, а другая величаво застыла с державным скипетром. И были руки эти полны неги и изящества. И многим казалось, будто они излучают силу и свет: рассказывали, что ладони Соломона обладали чудесным свойством, что с их помощью он умел исцелять хвори и недуги. Грудь Соломона, украшенная медальоном из слоновой кости – специальной царской печатью, – мерно вздымалась и опускалась, тонкие ноздри прямого носа с удовольствием вбирали в себя прохладу свежего утра: царь был спокоен и ждал свой народ. Небольшая темная бородка по моде того времени была расчесана и умащена благовониями. Чистая и по-младенчески свежая кожа лица подчеркивала глубину, как агат, черных глаз, обрамленных длинными, черными же ресницами и увенчанных тонкими стрелообразными бровями. Крупный рот и яркие губы выдавали человека эмоционального в любви и делах сердечных.
Весь облик Соломона являл необычайный союз нежности и мужества, целомудренности и сладострастия, склонности и привычки к волнительным раздумьям и стойкой уверенности в собственных деяниях. Все, что ни совершал Соломон, все совершалось им искренне. Вероятно, так и удавалось ему соединять в себе столь много ликов: болея за судьбу страждущего, он по-настоящему жалел его и готов был заступиться за несчастного перед всем миром; гневаясь на преступника и предателя, он был способен своими руками пронзить его мечом из дамасской стали – трофеем из непокорного Дамаска. Нрав и характер Соломона не поддавались однозначному определению, вызывали восхищение и часто – недоумение.
А между тем было Соломону не менее сорока пяти лет. Поговаривали, что неспроста была так чиста его кожа и свеж его облик. Что некий волшебный эликсир молодости помогал ему сохранять долголетие и красоту…
Вот и сейчас пришедшие во дворец израильтяне и иноплеменники смотрели на него, как на полубога, неподвластного земным стихиям. Перед просящими был истинный повелитель, и только он мог осчастливить их и направить на верный путь, через него с ними говорил Яхве.
Глава 2. Суд Соломона
Итак, началось. Один за другим являлись те, что готовы были стать сопричастными мудрости Соломона. Часто люди выходили к высокому трону по двое или по трое – представляя несколько сторон конфликта. Время шло, некоторые валились с ног от напряжения и зноя: солнце становилось все жарче, и не все имели возможность протиснуться к источнику, чтобы сделать хотя бы один освежающий глоток. От обилия вспотевших тел в зале стало дурно пахнуть – ни благовония, беззвучно разносимые слугами, ни отверстия в стенах и потолке, ни душистые испарения, идущие из бронзовых чаш, – теперь не спасали.
Царь же был терпелив и вынослив, никак не выражая своей усталости или раздражения.
И предстали перед Соломоном три брата и отец – Неарам, Нехам, Нирит и Hoax, знаток гончарного ремесла, многим в Иерусалиме известный. И заговорил самый старший из мужей – Hoax, почтительно преклонив колени перед владыкой:
– О, царь, о мудрейший! Годы, долгие годы руки мои, глаза мои и сердце постигали душу и свойства глины. И бог даровал мне удачу, и я разбогател, женился. А теперь… Скажи, что мне делать? Три сына у меня, три любимых чада. Как и велит закон предков, первенец – наследник мой. Но вражда сковала сердца сыновей моих, и мрачнее бури стала жизнь в доме. Рассуди, как же быть, как вернуть в дом покой и любовь?
И отвечал Соломон не раздумывая:
– Пусть каждый из сынов твоих освоит какое-либо искусство – жмет вино или оливки, сеет пшеницу или научится владеть оружием. И когда достигнет каждый из них мастерства в деле своем – выбирай наследника: кто искусней в выбранном ремесле, тот достойнее распорядится твоим наследством.
Пока Соломон говорил, Hoax внимательно слушал его. Царь умолк, и прошло не одно мгновение, пока гончар, застывший в преклоненной позе, постиг задуманное Соломоном. Лицо его прояснилось, и он стал радостно восклицать:
– О, я понял тебя, владыка! Поистине, мудрость твоя безгранична! – и он долго еще воспевал божественный ум Соломона – по мере того как люди расступались, давая дорогу счастливому отцу и его чадам, в недоумении глядевшим друг на друга. Интерес к происходящему и любопытство: что же такое понял Hoax – уже соединили рассорившихся было братьев.
И снова Соломон утешал тоскующих и исцелял страждущих.
Солнце уже стояло в зените, когда залу огласил крик младенца, а вслед за этим – бранная женская речь. Соломон велел позвать нарушавших покой и порядок. Оказалось, это о чем-то громко спорили между собой две женщины, в нетерпении ожидающие внимания владыки. Представ перед Соломоном, одна из них, что была выше ростом, откинула свой платок, обнажив полное красивое лицо, и почти закричала:
– О владыка! Кожа твоя – словно мрамор, на котором покоятся грозные херувимы твоего величественного дворца! Глаза твои – словно бархат синего ночного неба. Ум твой – живительный и бездонный источник мудрости. Рассуди нас: отдай дитя той, кто является матерью его. Эта грешница, – женщина указала на спутницу, – обманом захватила мою дочь. Потому что сама бесплодна и пуста, как желтая Арава, и вдобавок бесстыдна, как потерявший честь и доброе имя предатель! – она передала ребенка в руки Соломона, и дитя умолкло, словно подчиняясь некой внутренней силе государя, словно тоже ожидало решения царя.
– Ты врешь, – резко скинув покров с головы, зло и грубо вдруг стала наступать другая женщина: до сих пор она, завороженная, смотрела на царя, не в силах отвести от него глаз, а теперь как будто очнулась, и с губ ее посыпались нечестивые и непристойные слова. Ни серьги, свисавшие с ее ушей, скрытых темно-коричневыми волосами, ни вплетенный в пряди бисер не могли украсить ее искаженного злобой лица.
И тут заговорил Соломон:
– Мир вам! И да пройдет печаль ваша! – не поворачивая головы, не повышая голоса, царь обратился к стражнику: – Возьми, Варлаф это дитя и разруби его острым мечом пополам. Пусть каждой достанется ее доля.
Лица обеих женщин почернели, а та, что первой обращалась к Соломону, почти лишилась чувств и упала на колени.
– Не губи, не губи ребенка, царь, – словно пронзенная стрелой дикая птица, взвыла она, – лучите отдай его ей, только даруй ему жизнь…
И тут всё содрогнулось от чуждых человеческому уху лающих звуков – это, словно безумная, захохотала другая женщина. Она уродливо шаталась, и, словно когти, скрючивались пальцы ее изнеженных, не знавших труда рук.
– Вот уж мудрое решение! – завопила она, оттаскиваемая стражниками к выходу.
– Возьми ребенка, любящая свою дочь мать, – велел Соломон просительнице, в судороге сжавшейся у его ног. – Потому что дорога она тебе больше жизни, как жеребенок дорог истекающей сладким молоком кобылице, как дорог птенец слабой птице, ценой своей жизни отваживающей от гнезда яростного зверя.
– О, слава тебе, царь! – закричала счастливая мать, задыхающаяся от пережитых волнений. Она прижала к себе дитя и почти бегом скрылась в толпе, рыдая от счастья.
Тем временем взор Соломона упал на лик старца, проницательно и с достоинством взиравшего поверх чела владыки. Соломон с помощью слуги подозвал старика:
– О чем думаешь ты, старик? Ты не похож на человека, нуждающегося в совете. Или праздное любопытство привело тебя ко мне?
Старик поприветствовал Соломона согласно обычаю и обратился к царю:
– Ты прав, государь. Ни о чем не буду я просить тебя. Я – странник и поэт. И пришел я, чтобы убедиться: таков ли ты на самом деле, о Спокойный, каким провозглашают тебя легенды и песни. Кто знает, а может, и тебе понадобится мой совет?
Соломон побледнел. Тонкие брови сошлись на переносице.
– Ты смел и дерзок, старик! Ты сомневаешься в моем уме и прямо говоришь мне об этом! А если я прикажу заколоть тебя? Или закидать камнями? – грозно сказал царь. Но в лице старика, в его по-старчески бесцветных, бледно-голубых глазах он не увидел ни тени страха, ни тени заносчивости и высокомерия. – Останься, – вдруг приказал Соломон и повелел старику сесть на скамеечке у своих ног. Старец занял место у основания огромного трона, и владыка будто забыл о нем.
Тотчас перед Соломоном оказался высокий юноша. Короткая тонкая туника не скрывала гибкого сильного тела, и женщины, стоявшие поодаль, втайне залюбовались им. Притягивали взгляд и светлые, с золотым отливом волосы юноши, кольцами обрамляющие узкое красивое лицо: точеный нос, чувственный рот и большие синие глаза позволяли говорить о благородном происхождении мальчика. Однако его одежда явственно свидетельствовала об ином: это был не вельможный отпрыск и не наследник богатого отца, а всего лишь пастух. Вероятно, тяжелую дубинку с разящими диких зверей каменными шипами он оставил где-то в другом месте, а вот длинная палка, словно овечий рог, загнутая на конце, и тонкая дудочка были при нем.
С благоговейным трепетом юноша вытянулся перед владыкой, испытывая явное смущение, не решаясь начать свою речь. И тогда заговорил Соломон:
– Поспеши, юноша! Не омрачай чела своего постыдной трусостью. Яхве милостив. Поток его полон воды, щедрая земля умягчена дождями, а урожай благословлен. Оазисы в пустыне источают жизнь, холмы изобилуют радостью. Не бойся, юноша! Говори.
– О, царь! Ты сделал народ Израиля своею силою, утвердил мироздание мудростью, дарованной тебе Богом, своим разуменьем распростер души людские. На голос твой и прикосновения откликаются и уходят недуги.
Я живу среди цветов и деревьев, где долины окутываются хлебом и пастбища одеваются скотом. Я пастух, и я жажду совета и утешения твоего.
Пока юноша произносил эти слова, Соломон и старец у его ног, а также те, кто, не занятый собственными мыслями прислушивался к происходящему, – с удивлением взирали на странного своими излияниями, обаятельного юношу:
– Кто ты, мальчик? Твои уста источают мед и проливают свет и покой на мое сердце!
– Я сирота, о владыка! Давным-давно, лишенный животворящего молока матери, я был найден у дверей дома лавочника Иакова, сына Михея. Я рос среди его детей. Солнце и небо, тучные земли плодородных долин твоих и быстрые реки научили меня искусству слова. Но увы – там, где я живу, ценится лишь физическая выносливость и умение беспрекословно выполнять поручения.
– И это важно. Если ты одолел своей силой науку послушания, то сумеешь познать, как прекрасны свобода и своеволие. Зачем же ты здесь?
– О, благодарю тебя, владыка, за источающие надежду слова твои. Беда моя вот в чем. Я полюбил, полюбил горячо, и пламя съедает меня, мое чрево, – в толпе послышался смех. Но пастух уже никого не слышал. Он схватился за сердце обеими руками и на миг закрыл глаза. Если бы сейчас он имел способность видеть и замечать окружающее, он бы увидел, как оживилось лицо Соломона, считавшего себя великим знатоком любви, как напрягся он в предвкушении любовной истории. – Она живет в том же доме, что и я. Опасаясь за красоту и честь сестры, братья заставили возлюбленную мою работать на виноградниках, а меня отослали на пастбища. Теперь мы встречаемся редко, лишь когда я прибегаю к ней, чтобы хоть миг дышать с ней одним воздухом и делать глотки из того же сосуда, что и она. Тело ее почернело, а в волосах поселилось горячее солнце. Еще краше стала она, еще прелестнее, еще веселее встречает она меня… Братья не хотят выдавать ее за безродного сироту, они отыскали ей богатого жениха и готовятся рассказать ей об этом.
– А что, так ли хороша твоя возлюбленная, достойна ли она твоей печали, о юноша?
– Царь! Тело ее гибкое и сильное, подобно виноградной лозе. А голос… Знаком ли тебе трепет распускающихся цветов, слышал ли ты благовест восходящего солнца или… или как звенит вода в ручье, если бросить в него золотую монетку? Таков ее голос – нежный, сладкий, ласковый. Глаза ее цвета неба в грозовую пору, а лицо – оно будто радуга после долгожданного дождя. Волосы ее, как ночь окутывает землю, скрывают полные груди ее причудливыми одеждами и пряно пахнут жизнью. Когда она встречает меня, то надевает свои праздничные серьги и украшает волосы хрупким бутоном… Но страшное горе наполняет мою душу и мрак застилает глаза, когда я думаю, что она достанется другому, и я не обрету счастья рядом с нею. Что делать мне, как вызволить ее из плена моих названых братьев? Моя любовь так сильна, что причиняет мне боль. Но за эту боль я готов целовать ее ноги…
– Что ж, мальчик, – неожиданно трезво и отчужденно отвечал Соломон, – ты слишком юн еще, чтобы понимать: и это пройдет. Подумай, а может, правы братья, разделив вас, как суша разделяет два бурных потока. Когда ты возьмешь ее, то боль уйдет, но уйдут и грезы из сердца твоего, отверсты станут очи, и красота ее уже не покажется тебе такой яркой. Что дашь ты ей взамен любви: она будет так же работать на виноградниках или убирать за скотиной, просить милостыню у братьев, чтобы напоить тебя сладким вином в редкие часы веселия? Она будет стариться на твоих глазах, и тело ее будет источать смрад. Крепись, юноша! Беги от своей любви! Ты пылок и велеречив – воспой ее в громких песнях, восславь недосягаемую любовь свою – и, быть может, слава осенит твое имя и имя твоей возлюбленной. Как зовут тебя, дитя?
– О царь! – сокрушенно воскликнул юноша. – Я – Эвимелех, несчастный пастух, – взгляд его погас: другое он ожидал услышать от мудрого владыки, ждал чуда. А теперь он смутно чувствовал, что ему нехорошо, жутко: он был разочарован, он засомневался в могуществе и искренности полубога, говорящего с ним так милостиво и так учтиво, и за это ему было стыдно, он был недостоин находиться здесь и собрался уходить.
Соломон видел, что творится с пастухом по имени Эвимелех.
– Постой, – окликнул он его. Юноша с надеждой обернулся и посмотрел в глаза царя. – Как зовут ее?
Эвимелех не хотел произносить ее имени, но ослушаться не мог и не мог не ответить на вопрос.
– Суламифь, – тихо и ясно произнес он, и ему стало печальнее прежнего: проговорив имя любимой вслух, Эвимелех не в силах был отделаться от наваждения: ему казалось, что он чем-то осквернил это священное для него слово, осквернил тайное пламя, озаряющее его дни, – поведав во всеуслышание о своем счастливом горе.
Юноша ушел, скрывшись среди туник и покрывал. А царь продолжал вершить свой суд.