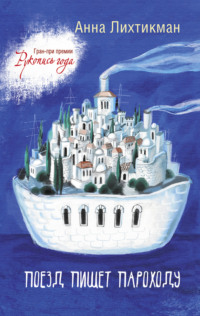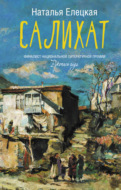Kitobni o'qish: «Поезд пишет пароходу»
Моим родителям и брату, с любовью
Серия «Люди, которые всегда со мной»
Дизайн обложки:Марина Акинина
В оформлении книги и на обложке использованы иллюстрации автора

Этот февраль солнечный. Каждый день шелестит и слепит, дразня периферийное зрение, словно комок магнитофонной ленты, зацепившейся за куст. По утрам я выбираюсь из своей конуры и брожу по городу, взбудораженный и счастливый. Я вдыхаю запахи кофе и омлета из чужих окон, запахи прирученной оранжерейной земли из магазина цветов и еще чего-то: наивного, милого – так пахнет на ладони оранжевая метка божьей коровки. Но я всегда упускаю час, когда день надламывается и я внезапно оказываюсь в совсем другом городе: голодном, спешащем, неприятно, по-муравьиному, деловитом. Мне следовало бы заранее позаботиться об убежище. Найти какое-нибудь тихое кафе и пересидеть всю эту суету там. Но, похоже, в городе таких нет. Из открытых дверей одинаково пахнет разогретой едой и доносится звяканье посуды, тонущее в такой же, как еда, многократно разогретой музыке. Иногда я наконец нахожу, что ищу, – тишину и белоснежную флотилию столиков в углу. Но когда уже прикидываю, где бы там устроиться, то встречаюсь взглядом с хозяйкой, и столько в этом взгляде любопытства, жадного и простого, как рев бегемота, что я, не замедляя шага, прохожу мимо. Постепенно во мне накапливается усталость, которая к вечеру превращается в боль. Это боль бездомности, и каморка, в которую я возвращаюсь по вечерам, ничем тут не помогает. Теперь, когда у меня нет ни мебели, ни утвари, я остро чувствую вес того, что ношу в себе, так бывает, когда зависаешь на полустанке с кучей вещей.
Как-то раз, устав бродить, я сел за столик в маленькой пиццерии, пододвинул к себе картонку из-под пиццы, неожиданно чистую и приятно-твердую, и написал: «Начинаю эту историю не без тайного трепета, ибо…»
Я всегда любил начала. Не припомню ни одного бездарного. Возможно, начало – это детство книги, время, когда феи приносят свои дары к изголовью колыбели. Но все-таки какую смелость нужно иметь, чтобы выплывать в открытые воды романа. Я почти физически ощутил это пароходное движение – неуклюжий мучительный разворот в крохотной бухте. Кажется, стоит лишь выбраться туда, на простор, и дальше все пойдет само собой.
Я вновь вышел на улицу и направился в магазин канцтоваров. Купить ежедневник и писать туда? Это защитило бы меня от любопытных взглядов. Сидит себе человек, планирует свой день. Я раскрыл несколько – наугад, но все они были расчерчены с такой угодливой агрессивностью, словно хотели сказать: «Седьмого января у тебя десять дел и восьмого десять, а вот девятого – выходной, – теперь тебе полагается отдыхать, расслабься уж так и быть, бедолага». Если бы я и принялся записывать туда свои мысли, это выглядело бы как война карикатурного мятежного духа с таким же карикатурным писчебумажным диктатом. Не удержавшись, я взял в руки и прелестный молескин, обтянутый голубым шелком, на котором лениво извивались викторианские сорняки. Такой мне не подходил, но как приятно было провести пальцем по золотому обрезу. Я обошел уже все полки, все еще не понимая, что ищу. Нужно было либо уходить ни с чем, либо покупать обыкновенную ученическую тетрадку и смириться с мыслью, что писать мне будет так же тяжело и неудобно, как неудобно делать все остальное: разнашивать новую обувь, влезать в слипшиеся, пересохшие на бельевой веревке джинсы – так же неудобно, как жить. И тут я заметил бумажные блоки – листы, попросту склеенные по корешку, но не имеющие обложки. Вот они мне подходили. Отсутствие обложки как-то успокаивало: в обложке слишком много торжественности. Некоторые из блоков были цветными. Я перебирал их, пока мне не попался синий. Это довольно нелепая штука – темно-синяя бумага для письма. Но не более нелепая, чем взрослый человек, озабоченный тем, чтобы кто-то не заглянул ему через плечо и не прочел его опусы. Я направился к кассе. «А ручку вам какую?» – спросил продавец. Я ожидал этого вопроса и уже заранее ликовал, зная ответ: «Ручку? Конечно же, темно-синюю!»
11/02/2010
Стелла. Это что-то новенькое

Я отодвигаю штору и прохожу в темноту зала. Сильвия сидит на сцене с голой грудью, а Ицхак Зобак водит по ее левой груди указкой. От неожиданности я роняю палку, но, к счастью, она падает на мягкое покрытие, и никто из зрителей не оборачивается. Я прислоняюсь к стене и начинаю думать. Возможно ли, что за те полдня, которые я провела в своей комнате, мир мог измениться до неузнаваемости? Наверняка произошли какие-то неизвестные только мне события планетарного масштаба, благодаря которым человечество сделало несколько гигантских шагов к бесстыдству. Я вполне могу себе это представить. Я могу представить себе все что угодно, но вовсе не потому, что за свою жизнь успела так уж много повидать. «У тебя старые глаза», – говорила мне мама, когда я была еще маленькой девочкой. И вот сейчас мои старые глаза видят что-то невообразимое. Может быть, пока моего появления никто не заметил, стоит отрулить обратно, в коридор, а затем запереться у себя и послушать новости? Но я решаю дождаться конца лекции. Зобак кладет руку Сильвии на грудь и произносит: «Вот так, не спеша, словно пересыпаешь песок. Но в случаях, когда мышечная ткань плотная, этот метод не годится, и больше подходят круговые движения, как я уже показал раньше». Затем он берет Сильвию за плечи и сдирает с нее кожу. Две увесистые груди вместе с кожей шлепаются Сильвии на колени и начинают сползать на пол. Она подхватывает муляж за лямки, встает, стряхивая ниточки со свитера, и передает грудь Зобаку, словно тяжелый рюкзак. «Поможешь потом донести это до машины? Я даже в армии таких тяжестей не таскал», – говорит он ей, картинно сгибаясь под весом «рюкзака». В зале поощрительно, но жидковато хихикают – всем понятно, что сейчас прозвучала одна из постоянных шуточек доктора Зобака, домашняя заготовка, которую он, как и грязноватый муляж, таскает по своим оздоровительным лекциям.
Я пока не пропустила ни одной, но хожу сюда вовсе не ради его наставлений и глупых шуточек. Этот небольшой зрительный зал для меня – полигон. Я шаг за шагом отвоевываю территорию, которая еще недавно была для меня недоступной.
Зобак выступает здесь каждую неделю, видимо, пансионат закупил у него оптом целый цикл. Иногда ему по дружбе ассистирует Сарит, здешний психолог, но чаще, как сегодня, медсестра Сильвия. На своей первой лекции доктор заявил, что будет считать свою работу успешной, если каждый из нас научится спокойно произносить слова: «какать», «пи`сать», «сношение» и «рак». Он сказал, что попытка заменить эти слова другими приводит к отрыву от внутренней жизни тела. «А можно, я буду говорить „трахаться“?» – спросил его тогда Лиор Штуль. Его за глаза называют «агентом». Он якобы служил когда-то в «Моссаде». Правда это или нет, я не знаю. Факт, что ходит он гоголем, и рядом с ним всегда какая-нибудь дамочка. Иногда даже не одна. Сейчас он тоже сидит в окружении «маргариток» – так я называю про себя его подружек. Несколько седых голов и одна рыжеватая: это его компания, они каждую ночь играют в столовой в преферанс. Но доктора Зобака тогда было не так просто смутить: «Нет, – сказал он, – „трахаться“ не подходит. Слово не должно нести агрессивной коннотации». Лиор пытался еще что-то возразить, но куда ему было до доктора, тот словно включил дополнительную мощность (видимо, он включал ее всегда, когда бравые типы вроде Лиора ему возражали). Теперь он говорил намного громче: «Потому что какать, писать и болеть раком – это нормально, – вещал он с интонациями пророка, передающего народу откровение. – Нормально, милые вы мои!»
Невероятно забавной была та первая лекция. Я едва удержалась, чтобы не описать ее всю Голди, но получилось бы чересчур громоздко и не по делу.
Здесь принято слегка презирать Зобака: говорить, что его лекции слишком популистские, и что посещать их стоит исключительно для развлечения. Но некоторые при этом добавляют, что он какой-никакой, а дипломированный врач, так что можно, в конце концов, и послушать, что он там говорит, если игнорировать тупые шутки. Зобак же упорно продолжает так шутить, потому что видит перед собой полные залы – замкнутый круг. Впрочем, даже здешняя директриса Мирьям сказала недавно при мне: «Он не на должном уровне, не для нашей публики, хотя, с другой стороны…» Она так и не договорила, что «с другой стороны», но я, кажется, поняла. В «Золотом чемпионе» живут обеспеченные и образованные люди, но, пока мы здесь ставим любительские спектакли и совершенствуемся в бридже, откуда-то, с другой стороны, к нам подступает простота. Телу, решившему выжить любой ценой, плевать на красоту формулировок, оно презирает эвфемизмы. Уродливая простота старости и смерти – она где-то близко, как река, что чинно протекает сквозь город, но в любой момент может вырваться из гранитных берегов и затопить все. Нет больше ленивых изгибов, сообщающих имперскую величавость городским видам. Теперь это река-погромщик, и в ее мутных потоках вплывает на шутовском троне атаман Альцгеймер в слюнявчике, залитом манной кашей, и с треснутым моноклем в глазнице. Взрезаются перины, выкидываются на всеобщее обозрение многолетние страхи и семейные тайны; хрупкие, как фарфор, хрустят под ногами домашние прозвища… Говорят, бывшие солдаты, побывавшие в серьезных переделках, спустя десятилетия узнают друг друга по взгляду, описать который невозможно. Таким обмениваются иногда и здесь, в «Чемпионе»: «Хватит ли у тебя сил выстоять со мной, подпирая ворота, когда с той, другой стороны, в них будет ломиться пьяная банда Простоты?»
Но, кажется, я слишком драматизирую. Зобак всего лишь зашибает деньгу, когда в обнимку с боевой подругой – резиновой грудью – разъезжает по таким местам, как наш «Чемпион». Наконец он сходит со сцены. «Постойте, не расходитесь, – кричат в зал Мирьям и Сарит, – мы должны обсудить несколько организационных вопросов».
В своем письме Голди я подробно описала здешний актовый зал, ведь культурные мероприятия – важнейшая составляющая жизни пожилых людей. Разумеется, там упомянуты ступеньки, нарушающие элементарные представления о безопасности. Когда свет в зрительном зале гаснет, их почти не видно, и запросто можно споткнуться.
Я прохожу к середине зала и присаживаюсь с краю. Прямо передо мной сидит Цви Аврумкин в своей шляпе. Она из великолепного фетра сложного зеленого цвета, и в комплекте с розовыми ушами (сияюще чистыми, покрытыми нежным девичьим пухом) вызывает у меня неожиданный тактильный аппетит. (Так, бывает, хочется потрогать мох или снег.) По правде говоря, мне тяжело касаться предметов, находящихся вне моей комнаты. Я превозмогаю себя даже перед тем, как сесть на стул в столовой, обитый чуть белесым, как обложенный язык, красным плюшем. Так что шляпа Цви – приятное исключение из правил. Я вдруг замечаю, что эта шляпа начинает подрагивать, как петушиный гребешок. Тем временем Мирьям говорит что-то про ремонт бассейна, новое расписание кружков и борьбу с вредной плесенью в комнатах. Едва заведующая замолкает, как шляпа Цви уплывает вверх – он встает.
– Я хотел бы поднять здесь один очень важный вопрос.
Несколько серых маргариток в переднем ряду переглядываются. Мирьям и Сарит приветливо кивают Цви, но их глаза затуманиваются, словно затягиваются тончайшей пленкой, по которой так легко узнать врачей и соцработников. Возможно, где-то, в глубине их тела, работает особая железа`, которая выбрасывает гормон гериатрического терпения. Сейчас оно им понадобится. По правде говоря, Цви стоило бы перейти отсюда в настоящий дом престарелых, где за ним бы присматривали. На этой неделе он уже дважды возвращался в пансионат на полицейской машине, потому что забывал дорогу. Есть у него и другие странности, к счастью, более безобидные, чем бродяжничество: он создает футуристические натюрморты из еды. Что ни день, уборщица со скорбным видом выносит из его комнаты башню из дюжины йогуртов, на вершине которой громоздится ком перепутанных спагетти, а рядом бутылка молока, из которой торчит морковка с нанизанными на нее ломтиками селедки.
Цви наконец встает, дожидается, пока станет тихо, и произносит:
– Я должен рассказать всем… – он слегка задыхается, у него одышка. – Я должен сообщить, что здесь происходит нехорошее.
– Вы о чем это? – спрашивает директриса Мирьям.
– У меня постоянно пропадают вещи!
– Расскажите, что у вас пропало.
– Фотографии у меня пропали! Такого еще не было, это что-то новенькое, да!
Пленка, туманящая взгляды Мирьям и Сарит, становится еще заметней. Видимо, они представляют себе, как Аврумкин крошит фотографии в недоеденный суп или выкидывает их из окна.
– Но здание охраняется круглые сутки, – говорит Сарит. – Скорее всего, ваши фотографии найдутся, Цви. Я вот иногда – не поверите – все утро ищу очки.
Про очки она говорит с особым выражением доверительной радушной простоты. Такие фразы приберегают для финала политики, когда встречаются с народом. Но Цви не так-то легко утихомирить, к тому же сейчас он выглядит на удивление трезво, словно никогда в жизни не выкладывал из еды абсурдные натюрморты. Он продолжает настаивать на своем.
– Происходит нехорошее… Безобразие…
– В ближайшие месяцы все корпуса «Чемпиона» будут оборудованы камерами слежения в целях безопасности, – вступает Мирьям.
Известие о камерах в коридорах веселит компанию преферансистов с Лиором во главе. Они толкают друг друга в бок, хихикают и вспоминают какие-то перебежки по коридору. Бедного Цви уже никто не слушает, и он опускается на место. Конец спектакля.
В театре зрители всегда разделяются на две категории: одни едва могут дождаться, когда прозвучит финальная реплика, и кидаются к выходу, словно их здесь силой удерживали. Другие – наоборот: хлопают до посинения и лезут на сцену. Эти уверены, что леди Макбет зачахнет без их упревшего в целлофане букета и уродливой чеканки.
Еще недавно я тихонько выходила из зала до того, как зажгли свет, но вовсе не потому, что спешила. Весь этот концертный ритуал, начиная от неспешного фланирования по фойе и заканчивая прощальными аплодисментами, был для меня невыносим. Но еженедельные упражнения помогли. Теперь я ничем не отличаюсь от обычного зрителя, который сидит на своем месте и прикидывает, стоит ли ему пробираться к выходу или подождать, пока толпа рассосется.
Но сегодня мне придется карабкаться на сцену, словно это я ретивый зритель с букетом. Я хочу сообщить директрисе, что уезжаю, и назначить время приема в бухгалтерии, чтобы утрясти дела с выпиской из пансионата.
Мирьям и Сарит окружены плотным кольцом.
– Когда начинается курс лепки?
– В моей комнате протекает труба.
– Весь балкон мне загадили ее голуби.
– Нужны микрофоны для проведения юбилея.
Сарит и Мирьям держат круговую оборону и пока неплохо справляются. Вот к ним протискивается Ципора – моя знакомая, которая давно стала бы подругой, подпусти я ее чуть поближе. Она, похоже, прибежала сюда прямо из торгового центра: на ее руки нанизано по несколько пакетов из модных бутиков. Сегодня же вечером она побежит все менять, продавцы уже знают ее как облупленную. Ципора меняет все, что позволяется. Мне рассказали, что она постоянно переезжает из квартиры в квартиру, а когда это невозможно – меняет мебель. Жилые единицы здесь освобождаются не то чтобы очень часто, все-таки «Чемпион» не дом престарелых, а пансион для пожилых. При этом освобождение помещений бывает двух видов: простое и «печальное». Простое – это когда кто-то уезжает жить в другое место, а печальное – это понятно что. Разумеется, простое освобождение квартиры очень ценится. Для тех, кто недоволен своей, это возможность что-то изменить, и тут, разумеется, Ципора в первых рядах – она всегда недовольна. Сейчас она утверждает, что птицы мешают ей спать и непрерывно гадят, и что ей грозит голубиное бешенство, если она немедленно не переедет в крайнюю квартиру в левом крыле. «Нет, – отвечает ей Сильвия, – квартира уже занята, туда на днях вселяется новый жилец». «У нас будет новенький! «– вторит ей Сарит, и лица у обеих вдруг делаются нежными и загадочными. Это выражение может означать только одно: в пансионате поселится кто-то умеренно-знаменитый (настоящие звезды устраиваются где-то в других местах). «Кто же это, кто?» – спрашивают все. «Кто-то из кино, как и Стелла», – говорит вдруг Мирьям. Все смотрят на меня. Смотрят, потому что Цви у нас Моряк, Лиор – Агент, а я… Я – Актриса, – хотя никто не спрашивал меня напрямую, где и как я играла, как, впрочем, не спрашивают Моряка, на каких судах он ходил, и Агента, в каких странах он шпионил. Кто же это? – Теперь уже и мне интересно. Поломавшись для усиления эффекта, Мирьям наконец произносит: «Это Гидон Кит».
Похоже, мне не стоит торопиться съезжать. В бухгалтерию я, пожалуй, пойду, но только для того, чтобы оплатить еще месяц пребывания в пансионате. И надо бы уточнить часы приема у Сарит. У меня как раз закончилось снотворное.
– Вы же, наверное, с ним знакомы, Стелла? – спрашивает Мирьям. – Все снова смотрят на меня.
– Да, мы изредка пересекались. – Пусть понимают это как хотят, формулировка достаточно туманна.
– Так вот, он решил пожить в Иерусалиме.
Это «пожить в Иерусалиме» Мирьям произносит нарочито небрежно, словно торопливо латает небольшую брешь. Все, кто это слышит сейчас, возможно, думают об одном и том же: Кит для нашего заведения слишком крупная рыба. Видимо, последние два развода здорово опустошили его кошелек. Я чувствую, что должна что-то сказать, и наконец придумываю что. «Судьба», – говорю я значительно и при этом понимающе киваю. Это звучит нормально, здесь у нас часто произносят слово «судьба».
…
«Золотые холмы», «Золотые дни», «Золотая долина» – так обычно называют пансионаты для пожилых. Эти помпезные названия подкреплены еще и жуткими интерьерами. Причина здесь не в отсутствии вкуса. Пуфы и фальшивая бронза – то же самое, что и розово-перламутровые туфли сутенера: это указатели. Не увидь вы их, засомневались бы, стоит ли поселяться здесь. Плывущим по реке старости необходимо видеть на берегах позолоченные вазы – так они знают, что не сбились с курса.
Холл «Золотого чемпиона» – не исключение. Ячеистый коричневый потолок и мраморный пол (красновато-коричневый, похожий на срез окорока), словно пытаются отменить безумную и смелую архитектуру корпусов, которые и сейчас смотрятся слишком современно. Эти здания похожи на клочья смятой бумаги, брошенные разбушевавшимся великаном на самое дно долины. Вокруг корпусов – парк пансионата с аккуратными, вымощенными белым камнем дорожками. Парк ухожен лишь в центральной части, а к краям постепенно переходит в дикие пустоши, окруженные свалками строительного хлама и старыми ступенчатыми террасами, засаженными оливами.
Мне повезло. В моей квартирке нет особых архитектурных выбрыков. Только скошенный потолок в ванной да окна в виде сот, к которым, впрочем, быстро привыкаешь. Окно было первым, что бросилось в глаза, когда мне отперли мою будущую комнату. Прямо под ним был разбит палисадник, сбоку виднелся синий забор корта, а над всем этим парил Иерусалим, сияющий, как рафинад, рассыпанный по холмам. Посреди пустой комнаты в пыльном солнечном квадрате стоял мраморный пюпитр. Почему-то именно этот, неожиданный здесь, предмет вызвал во мне прилив острого счастья. Позже пюпитр забрали, оказалось, он был сломан, и завхоз его склеил, а пустую комнату использовал, чтобы никто не двигал его, пока не высохнет клей.
Я вселялась сюда лишь с парой чемоданов и потому ожидала неприятных расспросов. Но оказалось, что именно так выглядит типичный здешний новенький. Здесь часто селятся вдовцы и вдовы, ошарашенные неожиданной пустотой, образовавшейся вокруг. Не в силах разобрать вещи умершего, они попросту не находят другого способа отделить себя от застывшей жизни в опустевшей квартире, кроме как собрать самое необходимое и перебраться сюда, в «Чемпион», в такую же, как моя, светлую пустую комнату. Так космонавты отдаляются от космической станции на крохотном шаттле. Старая квартира – семейное гнездо – первое время остается запертой и нетронутой. Там хранится мебель, ковры и фотографии. Потом вещи заталкиваются в одну из комнат, в то время как остальные две – сдаются. Потом оказывается, что сдавать только две комнаты – невыгодно. Вещи перевозятся на платный склад либо в пристройку в доме детей старика. Сколько времени нужно, чтобы космонавт почувствовал, что его дом уже не там, на станции, а здесь, в шаттле? – Возможно, не так уж и много.