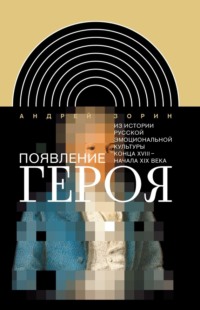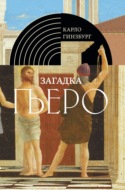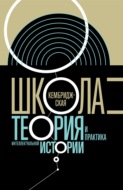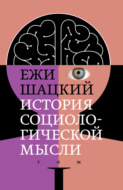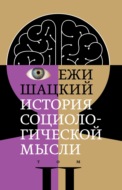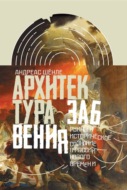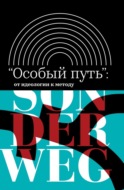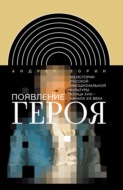«Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII– начала XIX века» kitobidan iqtiboslar, sahifa 2

Эмоциональный регистр эпистолярного романа задается разлукой, которая собственно и порождает необходимость в переписке.<...> Письмо создает образ адресата или адресатов, к которым можно обратиться с рассказом о сокровенных переживаниях, - то самое "другое ты", где, по словам Лафатера, как в зеркале, видит себя человеческая душа.

Общие эмоции формируют особое поле, связывающее тех, кто способен их испытывать, "узами чувствительности", не менее значимыми и "милыми", чем "узы отечестве, родства и дружбы". При этом русский путешественник оказывается способным не только органично вписаться в круг чувствительных европейцев, но и превзойти их в своем понимании новых эмоциональных матриц, а порой и обучать их "символическим моделям чувства", которые те еще не успели освоить.

Карамзин действительно избегал вымысла, не продиктованного крайней необходимостью, житейской или художественной. Он ощущал силу и значение эффекта достоверности, позволявшего ему реализовывать свою дидактическую программу. В первом же своем крупном произведении он взялся за радикальное обновление и обогащение репертуара эмоциональных матриц образованной русской публики.
В "Письмах русского путешественника" Карамзин осуществил массированный импорт самых актуальных "публичных образов чувствования". Он стремился не только сделать культурный мир Европы достоянием российского читателя, но и едва ли не в первую очередь - научить его чувствовать по-европейски. Можно сказать, что целью Карамзина было обеспечить читателя запасом эмоциональных матриц на все случаи жизни.

"Манифест о вольности дворянства", подписанный Петром III за несколько месяцев до воцарения Екатерины Великой, но реализованный уже в ее царствование, превращал службу государю и отечеству из повинности в акт сознательного выбора. Образ жизни высшего сословия зависел теперь не только от самого факта принадлежности к нему, но и от ценностей, идей и чувств, которые руководили поведением его членов, а государственная власть оказывалась вынужденной считаться с ними и тем самым принимала на себя ответственность за души подданных.

Для Руссо необходимость основывать воспитание на правилах, а не на обычаях была связана с кризисом сословного общества. Человека, которому суждено в точности повторить путь, пройденный предшествующим поколением, незачем специально воспитывать, разве что следует обучить необходимым практическим навыкам, а остальное он усвоит из повседневного опыта. В то же время человека, чье будущее неизвестно, необходимо снабдить руководящими правилами, которые помогут ему при поворотах судьбы.

Во второй половине XVIII столетия производство "публичных образцов чувствования" все в большей степени берет на себя литература, предлагавшая образцы эмоционального кодирования для широкого круга образованных читателей. <...>
Книга дает возможность заново возвращаться к испытанным переживаниям, уточнять и утончать свои эмоции, в постоянном режиме сверяя их с образцом. Самые популярные произведения того времени выполняли роль камертонов, по которым читатели учились настраивать свои сердца и проверять, насколько в унисон они чувствуют. Совместное чтение и переживание одних и тех же сочинений гарантировало распространение единых моделей чувства поверх национальных барьеров и государственных границ.

Московские розенкрейцеры, представлявшие собой самую радикальную и последовательную часть масонского движения, предложили программу полного переустройства внутреннего мира образованного русского человека, по сути дела альтернативную придворной. Они воспринимали свой орден не столько как "убежище", где можно было укрыться от развращенной придворной среды, сколько как прообраз будущего идеального мира и гармонических отношений между людьми.

Театр обладает уникальной способностью предъявлять социально одобренный репертуар эмоциональных матриц в максимально наглядной, телесной форме, полностью очищенной от случайной эмпирики повседневной жизни. При этом аудитория образует своего рода эмоциональное сообщество, где каждый имеет возможность сравнить свое восприятие с реакцией окружающих и проверить по своей референтной группе "правильность" и адекватность собственных чувств непосредственно в момент их переживания.

Более того, эмоциональный репертуар многих людей может включать в себя различные, часто плохо согласованные между собой, а порой и просто взаимоисключающие эмоциональные матрицы. Разные эмоциональные сообщества, к которым принадлежит человек, часто диктуют ему совсем несхожие правила чувствования, в которых ему приходится ориентироваться. Чем разнообразнее, напряженнее и потенциально конфликтнее "эмоциональный репертуар" личности, тем большим "индивидуальным разнообразием" будут отличаться ее переживания.

Соответствие между "публичным образом чувствования", специфической ситуацией конкретного человека и его идеализированным представлением о себе может быть полным и абсолютным только в редких случаях. Для того, чтобы стать "программой поведения", культурный образец должен быть пережит, а в процессе переживания он не только формирует личность, но и трансформируется сам. "Кодируя" то или иное событие или впечатление, индивид, с одной стороны, наделяет их значением в соответствии с существующими в культуре нормами и образцами, а с другой - приспосабливает сами эти нормы и образцы к своим собственным уникальным проблемам и задачам.