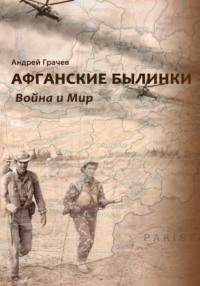Kitobni o'qish: «Афганские былинки. Война и мир»
Вместо предисловия
Много лет назад закончилась последняя война Советского Союза, – долгая, странная и до сих пор не объявленная. Прошли времена, когда к окнам окружных госпиталей липли обгорелые странные солдатики и, как кино, смотрели на не стреляющий, мирный город, а город бежал мимо них, город спешил, городу было некогда. Ввод войск назвали «политической ошибкой», войну – «авантюрой». Тринадцать тысяч «ошибок» совершили на той войне и около семисот тысяч «авантюристов» пропустили через неё. Войска вывели, «ошибки» запаяли в цинк и зарыли, а что делать с «авантюристами» долго решить не могли.
Поначалу их как будто не существовало в природе, а просто попадались на вокзалах загорелые дембеля и потом куда-то бесследно исчезали. Затем одумались и приравняли их к участникам войны. Но только приравняли, – войны всё равно не было. И где умудрился солдат потерять ногу и чей орден себе привинтил, оставалось неясным.
И, действительно, разными были войны. Даже и сравнивать было нельзя огромное горе страны с маленьким обелиском на кладбище. И всё-таки в самом конце восьмидесятых сообразили, что для солдата, в конечном счёте, разница только в одном, – на той войне гробы были деревянные. И официально признали «авантюристов» ветеранами. В народе же их с самого начала и навсегда окрестили как отдельную нацию – «афганцы», и тем прочно от себя отделили.
Резкие, злые, заводные с полуоборота, они и вправду отличались от других. У них и язык был особенный. Ну, какой «душара» влетел на «бурубухайке в зелёнку» и какой «бахшиш» нашёл в этой «зелёнке» «бача»? И когда в их знаках отличия решили разобраться, то не разобрали ничего. Зато многим удалось на афганской теме отличиться. Об «афганцах» заговорили, задумались, записали, и не сказали ровным счётом ничего.
Хочешь обмануть, скажи половину. Первую половину правды об «афганцах» сказала в книге «Цинковые мальчики» Светлана Алексиевич: мародёры, насильники, убийцы и изувеченные войной наркоманы. Вторую сочинил Александр Проханов: герои, рыцари без страха и упрёка, а кто упрекнёт – сволочь. Но из двух этих половинок ничего не сложилось. Правда Светланы Алексиевич не больше её гонорара, а правда Александра Проханова закавычена и была заголовком партийной газеты. Отпетыми головорезами возвращались они домой, и последними рыцарями Союза. Как и их война, остались «афганцы» необъявленными, и говорят о них разное: от «крепких парней» до «поголовных наркоманов», от «людей долга и чести» до «за косяк мать продаст». Не складывается правда об «афганцах» оттого, что не тот в этой правде расклад. Нужно всё разложить по полочкам, всё взвесить, а в мирной жизни таких весов нет. Война не всё спишет, но всё нужно писать о войне.
Война, это когда твой друг помещается в уголке вещмешка, а всё остальное расплюснуто миной. А ты ползаешь в пыли и собираешь серые куски мяса, а мясу, как и тебе – девятнадцать. Эта правда на вес мешка, – пять четыреста по весам баграмского морга.
Первая ложь об Афгане в том, что набирали в него особенных, обученных и самых. В Афган попадали из ПТУ, со двора и через год после школы. Он приходил домой повесткой, обманывал романтикой на карантине и встречал непостижимой пятидесятиградусной жарой. Он глушил «молодых» желтухой, крутизной афганских «дедов» и скручивал колючкой беспросветной гарнизонной жизни. Но настоящий Афган начинался не сразу, а с первой кровью, с первым двухсотым грузом из твоего призыва, когда, набивая магазин, уже знаешь, зачем.
Девушка-студентка брезгливо поджимает губы: «А вам приходилось убивать?» Война – это выбор, девочка, и спрячьте ваши губки. Нужно выбрать, чья мать заплачет раньше, и если не хочешь, чтобы твоя, – стреляй. И афганцы стреляли. Стреляли охотно, с остервенением, так, что клинило раскалённые стволы. Благо, боекомплектом Родина-мать не обижала. Хлебом могла обидеть, надгробной плитой, но патронами никогда.
В отчаянной штурмовке прорывался запылённый «мобута» к дому, из которого три часа крошил его роту пулемёт. Гранатами от всей накипевшей души гасил его, и, влетая в дом, видел «погасшего» пулемётчика и «погасших» рядом с ним женщину с детьми. Но штурмовка шла, пылил «мобута» дальше. А через неделю странно задумывался, упирался в задумчивости подбородком в ствол и разбрызгивал в рассеянности мозги по потолку. И никакому следствию не удавалось установить причину, никакому дознанию найти следа. Шёл «мобута» на боевые потери, паковался в груз «двести», – не сберёг свою мать, задумавшись о чужой. «Афганцы» были убийцами.
И от всех щедрот Родины один патрон, сувенирный, до серебряного блеска отполированный в карманах, таскали с собой. Вместо положенного пустого, с вложенной в него запиской владельца, многие носили с собой боевой, чтобы в нужный момент в последний раз им «расписаться». «Афганцы» редко сдавались в плен, чаще мозги себе кроили этим «сувениром», а лучше всего гранатой, чтобы не одному и красиво. Поразительный факт, – четыреста пленных оставила армия за девять лет войны. Но героизмом это не считалось, а был здесь ледяной расчёт и прямая необходимость. Четыреста, – это тех, кто выжил. Кожу сдирали «духи» с живого «шурави» и заставляли жить без неё несколько часов, калёным маслом заливали раны. Душманы резали уши, конечности, головы, засушивали их и прилагали к погонам, и за каждый такой «комплект» щедро расплачивалась американская демократия. Это правда баграмского морга. Армия насмерть дралась с четырнадцатым веком, и секунду смерти меняли «шурави» на её часы. Но сколько смертной тоски и последнего одиночества переживал он в эту секунду! Вечная вам слава, братишки, и простите, что не было рядом!
«А, правда, что уничтожали своих, не допуская плена?» Правда. Безнадёжно зажатый на сопке взвод пускал в эфир свой квадрат, и его вверх дном переворачивала авиация. С музыкой уходили ребята, играли в звонкий цинковый дембель. А лётчики знали? А начальство знало? Они знали правду баграмского морга. И не трогайте бога афганской войны – авиацию. На чужой земле она родным для «афганцев» делала небо.
И был у «цинковых мальчиков» неписаный, железной твёрдости закон – мёртвое дороже живого. Целые войсковые операции разворачивались, чтобы отбить «двухсотых», ожесточённейшие бои кипели из-за своих мертвецов. И иногда за одного «двухсотого» падало десять, но мёртвых с поля боя выносили. «Духи» об этом знали и минировали павших, чтобы умножить их число. Рассвирепевшие сапёры платили им тем же, и начиналась изощрённейшая минная война. Кто кого? Побеждённый – в цинк.
В Союзе мальчиков цинковали торопливым военкоматовским залпом и прочерком между датами перечёркивали жизнь. Из безмолвия они уходили в небытие. Раз не было войны, то не было и героев. Целая армия пропала без вести за южным рубежом. За рубежом оставляли всю её боль и горечь потерь. Эту войну «афганцы» проиграли начисто. В Союзе были другие законы.
И, конечно, баловались афганцы наркотой. Анаши в стране больше хлеба, водки – меньше воды. Ничем другим от войны не уйдёшь. Минздрав мог не предупреждать водилу с девятью тоннами тротила за спиной, и ни к чему было задумываться о здоровье десантнику, идущему на последнюю штурмовку. Шёл косячок по кругу, чтобы не сорваться оттого, что свинцовые фонтанчики бьют из-под колёс, чтобы не думать, что горку эту взять в принципе нельзя, а только очень нужно. Травились, чтобы не думать, кому, и, отравленные Афганом, летели потом в клиники, могилы, лагеря. Судите их за желтуху, – они ею болели тоже. Самой большой хохмой Афгана была надпись Минздрава на сигаретной пачке.
И права Светлана Алексиевич, форменный разгул творился в афганских гарнизонах. Афганские мужики любили редких женщин. На приказ министра обороны быть святыми «афганцы» плевали, кто и почём мог. И причина была простой, – он был невыполним. Святым на Руси был только один воин – Александр Невский, и тот по другому поводу. Такие приказы отдают те, кто уже может их исполнить. «Афганцы» ещё не могли. И странно требовать от военного быть мужчиной меньше штатского, – он больше. И всё свободное от войны и разгула время предавались «афганцы» разнузданному, поголовному мародёрству.
С гранатой без чеки в правой руке и бумажками в левой заходил «мародёр» в духан и автоматным стволом из-под мышки обводил товар. Граната для безопасности, деньги для порядка. «Чан афгани?» – почём, – не спрашивал. Ясно, что не дорого. И, очень собой довольный, сваливал. Откуда у солдатика деньги? Не скажу. Если уж война необъявленная, то и я объявлять не стану. Но паразит Васька идёт на дембель раньше, Ваське нужнее, а ему ребята ещё добудут. Но дембель случался скоропостижным. Ехал «мародёр» грузом «сто девяносто восьмым», и вёз в лёгком шикарный осколок среднего калибра и потрясающей роскоши пулю в правом предплечье. А в госпитале ходил за мародёром дружественный араб на излечении и не верил, что месяц войны стоит девять рублей чеками, а «мародер» не верил про доллары: Родину, как женщину, за деньги не любят. И радовался, что кончился Афган, но Афган не кончался.
Выяснялось вдруг, что осколок – «травма», война – «командировка» и только на два года отрезали рассеченную ногу. Кровавой кашей хлюпал неподъёмной тяжести протез, как на красный свет летела на корочки разъярённая очередь, и никто, ну, совсем никто тебя туда не посылал. Он троих завалил на Панджшере десантным кортом, горящей БМДешкой задавил пулемётную гниду, он, сильный и знающий себе цену, от бессилия плакал, – ничего не горит, и гнида своя.
И от тупого беспросвета мирной жизни тянуло к своим, таким же, туда, где хоть немного войны. Поэтому рождённое войной братство афганцев в мирной жизни не растворилось, а сложилось в фонды, организации, союзы. Но война – характер, – вместе с ней не проходит. И, как прежде, воюют «афганцы» не за себя. У улиц и подворотен отбивают они подростков, создают лагеря, центры, клубы. По всей России действуют таких сотни, и им верят, и к ним идут, потому что «афганцы» едва ли не единственные в этой стране, кто хоть что-то знает точно. Они точно знают, что «душман» – враг, а «зёма» – друг, и учат простым и точным вещам. Тому, что национальный герой России не Арнольд Шварценеггер, что Александр Матросов не подскользнувшись упал на дот, и знамя над рейхстагом покраснело не от коммунизма. Что Родину надо любить, что в армии не служить стыдно и за державу всё-таки обидно. Учат тому человеческому и настоящему, что принесли с собой с войны. Они живы, живут вопреки всей журнальной лжи и газетной «правде» и, не оправдываясь, не лгут.
Солдат – это вечный с краю. Его профессия – убивать, и быть убитым – судьба. А если выжил, вернулся, то до конца дней своих виноват. Каемся, во всех бессмертных своих грехах каемся. Умирали, горели, выжили и вернулись. Мы вернулись, Родина, какие есть, и другими не станем. «Афганцы» старше своего народа на одну войну, и в этом их главный знак и отличие. В их войне народ не участвовал. Наедине с собой были оставлены они в Афгане и научились отмерять свою правду весами баграмского морга, самыми точными весами в мире.
И сколько уж лет прошло, другой за эти годы стала Родина, и новая нация ветеранов появилась на её вокзалах – «чеченцы». Новые солдаты липнут к окнам наших госпиталей и с изумлением рассматривают не стреляющий, мирный город, а город бежит мимо них, город спешит, городу снова некогда. Не оглядывается Россия на своих солдат, на всех «испанцев», «египтян», «афганцев». Без оглядки торопится она в новый век, и в безоглядности своей успевает только к новой войне. И столько было уже в её истории малых войн, что складываются они в одну великую. От прошлой отличаются они только тем, что остаются всегда необъявленными. И давно уже затерялась среди них афганская, заросла событиями, отошла в прошлый век. Её завалило августами и октябрями, придавило траками новых войн. Но видно, так устроена наша память, сквозь любое безмолвие прорастёт. Так и в этих строках сквозь события и времена – проросло.
Не были, а так, – былинки. Но они живые, они оттуда. Их корни в Баграме и Чарикаре, Кабуле и Кандагаре. И не нужно спрашивать: было – не было. Всё было когда-то и не было никогда. Росток никогда не похож на собственный корень, но отдельно от него не живёт. Они написаны не для истории, а для души. Но если пробились, если живые, то и в вашей душе – прорастут.
Светлой памяти необъявленных солдат посвящается эта книга, их трудной жизни, нелёгкой смерти и уже навсегда – бессмертию. Долгие годы воевали они в Афганистане: дрались под Кандагаром, штурмовали Панджшер, вместе уходили на караваны и пробивались в Союз, и только потом разделила их судьба: отправила, кого домой, кого в вечность. Автор – не судьба, он только её записал. В солдатские медальоны разложил вечность, в «повести» – жизнь, но в его книге они, как и на той войне, – вместе.
Автор
Часть I. Война
Блокнот (расказ)
Чего только не бывает в жизни, даже хорошее. С утра разносил комбат, в обед долбил замполит, а вечером завезли кино. Потрясающее – «Москва слезам не верит». Все, кто загремел в караул, застонали, остальные радостно засуетились и выслали молодых занимать места. Один только Юрка Ковалев не суетился, сел за тумбочку и стал в блокноте что-то писать. Блокнот был маленьким, писать приходилось еще мельче, поэтому разобрать чего он пишет, было нельзя, а хотелось. И любопытный Шурка Линьков спросил прямо:
– Чего пишешь?
– Да так… – неопределенно ответил тот, – про все.
– Про что про все?
– Да про это…
– Ух, ты! – догадался Линьков и зауважал. – Писатель…
И ничуть не удивился, – возможно. Ковалев всей роте письма писал. Ляжет, уставится в потолок и произнесет: «Диктую!» И дальше только за ним поспевай. И до того складно, до того красиво, сдержанно, вроде, но так, что за душу берет и после не отпускает. Переписываешь набело, и от жалости к себе сердце заходится. Некоторые эти письма и не отсылали. Перечитывали в карауле и начинали как-то себе нравиться, отчего-то себя уважать. А когда Юрка не диктовал писем, писал в блокнот, и блокнот этот всегда носил при себе. К нему приставали от скуки: «Прочитай!» И он иногда читал. Но ведь он что делал, козел? Шпарил без запинки и с выражением «Агрессивная суть блока НАТО», а на странице было совсем другое. Линьков подглядел однажды и сейчас приставать не стал. Шмыгнул уважительно носом и потопал в кино.
Кино получилось веселое. В конце первой серии, когда Родик укладывал Алентову на диван, по КПП ударили из гранатомета. Весь мужской контингент от облома взвыл. Дежурная рота сбегала пострелять, и кино все-таки продолжилось, но уже сразу со второй серии, что было значительно хуже. Поэтому в палатку Линьков вернулся без настроения. Залез к себе на второй ярус, и, задумчиво поскрипев пружинами, свесился вниз.
– Слушай, Юр, а целуются в кино по-настоящему?
– Не знаю, не пробовал, – буркнул тот.
– А почему же тогда так по-настоящему продирает?
– Это и есть искусство, когда настоящего нет, а пробирает. Надо только, чтоб пробирало по-настоящему.
– Дурак, – влез, как всегда, Поливанов, – а убивают в кино тоже по-настоящему? – и рассмеялся.
Но Поливанов что? Он только анекдотов навалом знает, а Ковалев – голова. У него такое в голове, такая пропасть! Шурка лежал с ним однажды в охранении – за перевалом пасли «зеленку», – так за ночь столько от него узнал, что потом два дня спать не мог. И про звезды, и про войну, и даже про Александра Македонского. Он потому и место себе выбрал на верхотуре, чтобы к нему поближе. Несолидно для «черпака», зато всегда можно свеситься и спросить. Но сейчас все его расспросы прервал ротный:
– Отбой, Линьков! – вмешался он. – У тебя завтра выезд.
И выключил свет. Но Шурка долго еще отключиться не мог. Лежал, ворочался и скрипел. Из головы не выходила «Москва», – почему «не верит», почему «в слезах»? И только когда снова грохнуло на КПП и привычно затрещало со всех постов, заснул.
А утром осторожно, чтобы не разбудить Ковалева, поднялся, взял в оружейке автомат и пошел с ребятами на КПП. Пока ждали БТР, смотрел, как закрашивают на воротах копоть. Дневальные спешили до подъема, потому что днем нельзя, а вечером без этого не сдать наряд. Дырки там, пробоины, куда ни шло, а копоть извольте закрасить.
– И чего, дураки, на КПП лезут? – посочувствовал Шурка. – Здесь на метр полтора ствола и все спаренные. – Но, вспомнив, что наряд будет принимать как раз Ковалев, указал:
– За окном побелите, черное!
И порадовался за себя. Вчера он за две сгущенки записал себя вместо караула на выезд. Выезжали за водой на скважину, тоже не бог весть какое путешествие, но все равно, веселее, чем караул.
И точно, повеселились. На обратном пути из «зеленки» шарахнули из ДШК. По броне как булыжниками простучало, но размениваться с паразитом не стали, сдали пушкарям. Пропустили вперед водовозку и на полном ходу проскочили. И хорошо еще, Поливанов углядел, – хлестало из водовозки, как из ведра. Пробоины, как могли, заткнули тряпками и вернулись в полк. Воды, правда, довезли половину, но зато быстро. Дежурный на боковую еще не завалился, и, сдав ему автомат, Шурка заспешил в палатку. Нужно было срочно предупредить Ковалева, что стена на КПП не забелена и наряда в таком виде не принимать. А то ведь он хоть и голова, а с ушами. Примет по доброте, а у него нет, и будет потом расхлебывать за них, простота.
Но спешил Шурка совершенно напрасно: Ковалев, накрывшись с головой, спал. Дневальный из молодых разбудить его не решался, а ротный в палатку не заходил. И, сорвав с него одеяло, Шурка за дневального заорал:
– Подъем, жор проспишь!
И осекся. Ковалев был мертв, подушка была вся бурой от крови, лицо наоборот, белым, а в брезентовом полотнище у изголовья просвечивала крохотная дыра. Шурка шагнул назад, натолкнулся спиной до дневального и дальнейшее уже слышал плохо.
Пришел начмед, потом комбат и незнакомый из особого отдела майор, и началось то ли дознание, то ли что.
– Шальная… – заполнял майор. – Между одиннадцатью тридцатью и двенадцатью ночи… Входное отверстие соответствует…
«Это когда я про «Москву» думал, – соображал Шурка, и странно так соображал, отчетливо. – И он лежал так всю ночь, и утром лежал. И когда я боялся его разбудить…» И ещё поразило, как невозмутимо спокойно осталось все кругом.
За обедом обедали, за ужином ужинали. Ели без аппетита, но ели, разговаривали тихо, но не о нем. Дорошин внизу скатал матрац и унес в каптерку.
– Теперь твоя.
Потом злее обычного пришел замполит и стал собирать из их тумбочки юркины вещи.
– Мыльница его?
Шурка кивал.
– Зубная щетка чья?
– Тоже…
– А блокнот?
И Шурка неожиданно испугался:
– Мой.
Любые записи и заметки для памяти были строжайше запрещены. Блокнот до юркиных не дойдет. Замполит недоверчиво на него посмотрел. Но блокнот был не подписан, почерк неразборчив, и он его отложил. И Шурка облегченно вздохнул, прибрал его и быстренько после замполита отбился. Но юркиного места отбивать не стал, – полез к себе. Лежал, и, прислушиваясь к себе, недоумевал.
Получалось так, как говорил Юрка. Не было его в настоящем, не существовало, а пробирало. И пробирало так, что он вроде бы существовал. И хотелось все время свеситься вниз. И выждав, когда рота заснет, Шурка без единого скрипа поднялся, притащил на тумбочку переноску, которую Дорошин приспособил под настольную лампу, и, завесив её штанами, приступил. Не задумываясь, не подбирая слов и прямо с того места, где обрывалась строка. Места в блокноте оставалось много, но писать так же мелко он не умел и поэтому экономил. Писал, шмыгая носом, и выводил неуклюжие буквы. Он хотел, чтобы пробирало, чтобы верили и по-настоящему.
– Пишешь? – свесился к нему Поливанов, посмотрел задумчиво в потолок и неожиданно попросил:
– Напиши, как мы тогда с танкистами подрались, и он за меня вписался.
– Про то, как он мне на «губу» сгущенку принес! – попросили справа.
– И про письма!
И со всех сторон вдруг посыпалось:
– Про то, как он вместо «Боевой листок» «Боевой свисток» написал!..
– И про рейды!
– И про кино!..
– И про то, как мы на скважину ездим и вообще!..
Все вокруг заскрипело, придвинулось и ожило. Уцелевшая от караула рота наперебой диктовала, и Шурка едва за ней поспевал. Строчил, дул на пальцы и снова строчил. Рота охала, вспоминая, смеялась до слез и сухими глазами плакала. Всем было грустно и отчего-то пронзительно хорошо. Никто не слышал ни стрельбы, ни грохота КПП, ни шального свиста над головой. И когда в палатку вошел для подъема ротный Фомин, все спали вперемешку на чужих местах, Линьков за тумбочкой сопел в блокнот, а на переноске тихо занимались штаны. Фомин их осторожно убрал, пролистал блокнот и на середине с удивлением остановился. Сразу после мельчайшего бисера было неумело и старательно выведено: «Блокнот», а чуть ниже, коряво, но с тою же твердостью Линьков написал: «расказ».