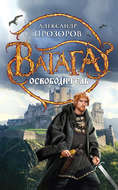Kitobni o'qish: «Император»
© Посняков А., 2013
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Глава 1
У каждого мгновенья свой резон…
Заросли бредины у болотины шевельнулись, словно там крался кто-то… Человек или зверь?
Высокий, едущий впереди небольшого обоза мужчина, придержав коня, всмотрелся в кусты, поправил висевшую на боку саблю в потертых, видавших виды, ножнах. Широкое, в общем-то добродушное лицо всадника, обрамленное густою черною бородой с серебрившейся сединою, ныне искажало предчувствие какой-то опасности, еще неведомой и, быть может, существовавшей пока лишь в мыслях.
– Соболь! – не выдержав, выкрикнул сидевший на первом возу парень в нахлобученной по самые брови шапке, отороченной беличьим мехом. – Семен Игнатьич! Глянь-ко! И впрямь – соболек! Может, стрелой его достанем?
Он схватил уже лежавший рядом, на возу, лук, да чернобородый Семен Игнатьевич, поправив синий, доброго фряжского сукна кафтан, под которым угадывалась кольчуга, обернулся с усмешкой:
– Ну, че выдумал, Афанасий?! Откель здесь, под Юрьевом, соболь-то? Поди, чудь местная да орденские немцы давно всех соболей повыбили. Куница то, не соболь!
– Да как же куница, Семен Игнатьич! – упрямо набычился Афанасий. – Что я, соболя от куницы не отличу?
Сказав так, парень, пряча обиду, отвернулся, посмотрел на прочих обозников – все мужики опытные, справные… впрочем, были и молодые ребята, человек пять:
– Эй, вы-то что скажете, отроци? Соболь?
– Да и не приметили как-то, – подъехав, ухмыльнулся в седле юноша в коротком татарском азяме до колен. – Но соболь тут давненько не водится – Семен Игнатьевич прав. Иначе что б мы немчуре продавали? Смекай, Афанасий!
Молодой человек постучал себя пальцем по виску и засмеялся. Смех его поддержали в обозе все, даже те, что у самых дальних телег ошивались – эти-то, спрашивается, что и видели?
– Вот, ржут, лошади! – обиженно сплюнув, Афанасий нахохлился, словно воробей у весенней лужи.
И в самом деле, сей обидчивый молодой человек сильно походил на воробышка. Худой, сутулый, с вечно растрепанными соломенными волосами и порывистыми движениями подростка, Афанасий был нынче в обозе самым юным – парню не исполнилось еще и семнадцати.
А уже не кто-нибудь – а молодший приказчик! Ну, то, конечно, дядюшки двоюродного заслуга – славного новгородского купца, «заморского гостя» Семена Игнатьевича Игнатова: пригрел сироту, не обидел – все ж родная кровинушка.
– Ладно, ладно, – посмеялся в усы купец. – Едем. Инда некоторым тут все еще соболя чудятся. Эй, Кольша, – чего застыл?
Кольша – тот самый насмешливый парень в азяме – дернул поводья коня, догнал переднюю телегу:
– Ай, Афанасий, и где ж тут твой соболь?
– Да там он, там – вона, в кусточках таится, ждет, когда проедем… видать, нора у него там где-то поблизости.
– Нора, – презрительно скривился Кольша. – Вечно тебе, паря, все чудится – то соболь, то людишки лихие.
– Да не чудится! – взорвавшись, Афанасий соскочил с телеги и, догнав купца, швырнул шапку оземь. – Семен Игнатьич! Дозволь быстренько глянуть! Ну, соболь то был… И вчера кто-то за нами шел, таился – я ж чувствую, я ж охотник. Да у нас, в Обонежье…
– У них в Обонежье и соболей-то никто не видал, охотнички те еще! И-и-и, Афоня!
Позади снова грянул хохот – понятно, поддерживали все насмешника Кольшу, а тот и рад – сам-то коренной, новгородский, семейка его всю жизнь на Плотницком конце проживала, и все остальные обозники: кто с Плотницкого, а кто со Славны – Торговая сторона, друга за дружку горой, вечно с софийскими робятами по праздникам на мостах дрались. А Афанасий им кто? Да никто. И что с того, что Семену Игнатьевичу двоюродный племяш? С Обонежья Нагорного до Новгорода-то – у-у-у… Неделю на лодке плыть да на коне скакать… инда еще и не во всякую пору проедешь с погоста-то Пашозерского. Чужак, чужак Афанасий – деревенщина, что с таким и говорить-то? Одеться как следует и то не умеет, все в онучах ходил, в лапотках да в кожаных плетеных поршнях, это сейчас малость пообтесался, сапоги себе справил, да в Юрьевее-Дерпте сторговал за полста кельнских грошей кафтан. С чужого плеча – сразу видно, что и говорить – деревня! Привык там у себя, в Обонежье, с весянами якшаться, а весяне те, многие говорят – язычники!
– У них там, в лесищах, пнищам трухлявым молятся да знать ничего не знают. Какой там соболь? Белка – и та за счастье! Ох-хотник, ха!
– Дядюшка, Семен Игнатьевич! – От обиды Афоня чуть на колени не пал – хотел, да постеснялся: засмеют, скажут опять – деревенщина неотесанная!
А он, Афоня-то, между прочим, и немецкий уже почти выучил, и латынь немного, и даже свейский… так, чуть-чуть, так ведь тот же Кольша и немецкую-то речь – через пень колоду, а уж о свейской и знать не знал. А туда же – насмехается!
– Дозволь, дядюшка, соболя поискать, запромыслить, все равно ж – сам сказал – сейчас на привал.
И столько мольбы было в светлых глазах нескладного, угловатого паренька, столько обиды…
А позади – снова хохот:
– Афонька-то там посейчас расплачется, ровно дите малое. А говорит – шестнадцать уже!
– Да врет он все! Кольша, слышь, у них, в Обонежье, и годов-то считать не умеют… а токмо соболей!
– В Обонежье-то и крашеная собака – соболь!
– А рукавицы они знаете как называют? Дянки!
– А когда хорошо, говорят – дивья!
– От деревенщины лыковые!
Тут и гость торговый не выдержал, обернулся, брови сурово сдвинув, погрозил кулаком:
– А ну, цыть! Ишь, рассупонились. Место лучше для дневки приглядывайте.
Оно, конечно, неплохо, когда есть в обозе такой человек, как Афоня, парень незлобивый, скромный, над которым и посмеяться можно без всяких обид, пошутить шуточки… как вон, вчера, привязали сонного за ногу к старому пню. Забавно вышло. Оно, когда с шуткой все – славно. И путь быстрее проходит, и об опасностях народ меньше думает, и по дому меньше скучает. Главное только – следить, чтоб до слез не доводили парня.
– Ужо сходи, Афанасий, – может, и впрямь соболь? А не соболь, так какую иную дичь добудь – как раз нам на обед.
– Ой, благодарствую, дядюшка! Век за тя буду…
– Да беги уже! А вы что выпялились? А ну-тко – живо у меня по дрова! Во-он на этой полянке и встанем.
Схватив саадак с луком и стрелами, Афанасий бросился с дороги в лес – в заросли орешника, рябины и липы. Уж если куда соболь и побежал – так только туда, уж не в болото же – а тут, почитай, по обеим сторонам дороги – трясина. Самому бы не пропасть – да уж Афоня человек опытный. Охотник, зря те смеются… лошади. Бывало, с батюшкой-то покойным и на медведя хаживали – сам-два – и на волка, и на рысь… Ну, рысь Афанасий и сам бить наловчился. Как белку – в глаз.
Быстро прошерстив весь орешник, юноша поглядел под липами и, обнаружив лишь отпечатки оленьих копыт, – остановился, перевел взгляд на темнеющий невдалеке ельник. А не туда ль соболек и подался? Конечно – туда.
Обнаружив рядом с ельником ручеек, Афоня никуда дальше и не пошел, схоронился в кустах можжевельника, держа лук со стрелой под рукой. Солнышко-то нынче разжарило – хоть и начало мая, а здесь, в ливонских землях, тепло, жарковато даже. Вот и зверь – рано или поздно, а к водопою придет, терпение только нужно. И – не спугнуть бы, не спугнуть.
Отрок улыбнулся и чуть прищурил глаза от яркого солнца. Уж тут-то он не прогадает – умеет и ждать, и таиться – охотник, что б там ни говорил этот краснощекий черт Кольша! Ишь, смеются… поглядим еще, поглядим!
Соболь это был, соболь – что ж, Афоня не отличил бы его от лисы иль куницы?
Что-то промелькнуло совсем рядом – чья-то стремительная серая тень! Юноша вскинул лук и, углядев за кустом зайца, разочарованно свистнул – а ну-ка, беги отсюда, серый. Заяц в эту пору – никакая не дичь. Его по зиме хорошо кушать, нынче же зайца клещ сосет, болезни разные через слюну свою поганую напускает. Болезни те к косому не пристают, а вот человек от них и помереть может. Так что скачи себе, зайчик, дальше – липу, вон, погрызи.
И вновь принялся ждать Афанасий, забыл уже и про обоз, и про то, что дневка – не вечная. Совсем забыл – охотничий азарт ухватил парня со всей своей властною силою, так, что и не упомнишь ничего, кроме охоты, и не уйдешь. Ох, напрасно отпустил парня дядюшка Семен Игнатьевич!
Таился Афоня в можжевельнике, соболя с терпеливостью поджидал да о своем думал. О том, что вчерась шли за обозом какие-то люди – то и доложено было дядюшке, да тот лишь махнул рукой – мало ли кто нынче по дорогам ездит да ходит? Ливонские земли – эт те не Пашозерский погост – народу-то куда как побольше. Вот и ездят. Кто в Дерпт-Юрьев на ярмарку, кто обратно, кто на поля – сев! – а кто и к озеру Чудскому, за сладкой рыбкою. Отрок и спорить не стал – гостю заморскому лучше знать. Однако для себя все запомнил – и сегодня, к ночке ближе, ладил посмотреть: кто ж там все-таки бродит? Все же казалось парню – вроде как таясь шли. Не нагоняли, но близехонько – то всегда по птицам орущим видно. Они – птицы-то – и сейчас орут, кружат. Но то ясно, почему – обозники на привал становятся, дровишки для костра рубят. Вот что-то звякнуло, а вот заржала лошадь – нехорошо так, тревожно. Наверное, увидала змею или почуяла волка.
Оп! Налетевший вдруг ветерок, легкий и по-весеннему теплый, принес запах зверя – еле различимый, но Афанасий сразу почуял, вскинул лук, затаил дыхание…
Ну, вот он – соболь! Небольшой такой зверек, мохнатый, с круглой головой и чуть вытянутой мордочкой. А мех… Пей, пей, соболек! Теперь уж ужо… А меха-то и нет! Плохой мех-то – весна. Прежний-то мех, пушистый, зимний – когда соболя только и бить! – сошел, а новый, летний… не мех, а смех!
И чего ради приложить стрелой зверя? Гордость свою потешить, чтоб знали все, кто такой Афанасий, сын Трегуба Иванкова? Не-ет, настоящие охотники так никогда не поступают – не дело то! Зверя, если не нужен, не стоит бить… Смеяться, правда, будут… Да пусть себе смеются! Брань – и та на вороту не виснет, а уж смех – и подавно.
Усмехнувшись, отрок поднялся на ноги и вышел из-за кустов – только соболька и видали! Ускользнул в ельник вмиг, лишь хвостом махнул напоследок. Да и ладно! Куда лучше сейчас какую-нибудь дичь запромыслить – перепелку, тетерку, рябчика. Чуть подальше – во-он там, в борке, наверняка есть кто-то. Наверняка! Правда – крюк, ну да ладно – ноги крепкие.
Опытный, несмотря на юность, охотник Афоня подстрелил двух тетерок довольно быстро – можно сказать, дичь сама в руки далась, – и, кинув птиц в котомку, зашагал к дороге.
Юноша в поисках соболя и дичи зашел довольно-таки далеко – и теперь нужно было как можно скорей возвращаться или уж в крайнем случае перехватить обоз по дороге, стерпев все последующие насмешки. А дичь – она и на ужин сгодится, хоть в лесу ночевать, хоть на постоялом дворе, – хозяйка запечет или сварит.
Углядев за черноталом дорогу, отрок еще прибавил шагу и уже почти бежал, перепрыгивая с кочки на кочку, когда вдруг услыхал впереди ржание. Обоз!
Афоня хотел уж было покричать, помахать своим – те вот-вот должны были показаться из ельника… и показались…
Какие-то мрачного вида всадники в темных плащах, судя по одежде – немцы! Живо схоронившись за куст – а пущай, от греха, проедут, – юноша всмотрелся. Никакие это были не торговцы, а люди воинские, может быть даже – рыцари или сержанты, кнехты. На ком-то поблескивали кольчуги, на ком-то – кирасы латные, а у кого-то смешно топорщились бархатные, с гвоздочками, курточки – то не курточка, а боевой доспех из обшитых тканью пластин, называется бригантина и стоит – Афанасий сам видал в Дерпте на рынке – двадцать пять золотых монет – гульденов или флоринов, или венецианских дукатов! А двадцать пять флоринов – это… это… это… ммм… это почти две тысячи серебряных грошей – жалованье младшего приказчика за целый год беспорочной службы! Даже на один грош, и то много чего купить можно – скажем, кельнский фунт мяса, или дюжину яиц или пирогов, или… да на целый день хватит, а ежели скромненько – так и на два!
– Раз, два, три… – На всякий случай отрок шепотом считал немцев, знал: купец о них обязательно спросит, а сведения должны быть точными. – Дюжина и два… дюжина и три…
У всех всадников покачивались подвешенные к седлам шлемы – обычные, без всяких выкрутасов, каски, которые с удовольствием надевали в битву и рыцари – меч с таких касок соскальзывал. Кроме касок с латами имелись, конечно же, и длинные рыцарские мечи, и палаши, и боевые топоры – алебарды, а также еще кистени, шестоперы, палицы… ого! Еще и арбалеты – не со стременем и рычагом «козья нога», а с зубчиками – кремальерой – удобней в лесу для зарядки, можно с лошади не слезать. Однако куда ж они такие оружные направились-то? К Чудскому озеру, в псковские земли, кои ныне Господину Великому Новгороду подчиняются, или Новой Руси, как его еще прозывали? Так вроде Новгород с орденскими немцами не воюет. Ни с недавно разгромленными тевтонцами, ни с ливонцами… Зачем тогда столько оружия с собою возить? Больших разбойничьих ватаг – про то дядюшка Семен Игнатьич говаривал – в здешних лесах нет, а малые…
– …три дюжины и один, три дюжины и три… сорок!
…а малые на сорок человек не сунутся! Тем более те без товаров едут, без телег… А! Вот и гербы!
Афоня наконец-то разглядел на плащах всадников золотые с черным кресты да черного же одноглавого орда на золотом поле. Теперь все ясно – тевтонцы. Новгороду – Новой Руси – они теперь не враги, мира, торговлишки выгодной ищут. У тевтонских немцев, дядюшка рассказывал, самые лучшие корабли – не у всякого ганзейского города таковые сыщутся. С такими-то кораблями – чего бы не торговать-то? Вот и посуху, бывает, торгуют… хотя эти-то вовсе на купцов не похожи… Ха! Ну, конечно ж! Ясно, куда эти тевтонцы едут, тут и думать нечего – в Псков, на службу воинскую наниматься, рубежи литовские охранять… бывшие литовские, а ныне – Новой Руси! Витовта с Ягайлом нет ныне – убиты иль бегают где – бог весть! Великий князь Егор-Георгий Заозерский всех прогнал, а еще ране – с Ордой замирился, царицу на престол посадив. Теперь та царица князю Егору обязана, вот и мир – никто с набегами на землю русскую не приходит. Правда, у самих замятни хватает – то там, то сям – все обиженные правды ищут: то бывший московский властелин Василий, то тот же Витовт, а то – и кто из татарских царевичей, бабу на ордынском троне терпеть не желающих.
Да! Эти – на службу едут, деньжат подзаработать – дело верное, платят русичи нынче щедро! А говорят промеж собою чудно. Афоня прислушался, приложил руку к уху: вроде и немецкая речь… но не такая, как у орденских или, к примеру, ревельских да дерптских немцев – другая совсем, мало что и понятно.
Да и черт с ними со всеми – пусть себе едут. А показывать себя нечего – вдруг что задумают? Одинокого-то путника пограбить – милое дело, пускай и нечего, честно сказать, с Афанасия взять. Хотя… как же нечего-то? А тетерки?
Пропустив непонятных немцев, подросток еще некоторое время выждал – вдруг да вернутся за чем-нибудь? – и, выбравшись на дорогу, побежал к обозу.
Между прочим, далеконько пришлось бежать-то! Взобрался на горушку, с нее – вниз, да вброд через неширокий ручей, потом опять на пригорок, и снова – вброд, потом – ольшаником, ельником – а уж опосля… опосля и поляна знакомая показалась.
Никуда еще не делись обозные, даже волов да лошадок, пастись пущенных, в возы не впрягли. Посреди полянки догорал костер, а вокруг… Выбежав из-за елочной молоди, отрок так и застыл в изумлении, отчаянии и горе!
Все обозные – все, кого он знал, включая самого купца, Семена Игнатьевича, – валялись на свежей травке в самых различных позах. Мертвые! Точнее сказать – убитые. Кто с проломленной головой, кто с разрубленной шеей, а кто и со стрелой в сердце… И все – добиты, ни одного раненого…
– Господи-и-и-и!
Оббежав всех и не отыскав ни одного живого, Афанасий грохнулся на колени в траву и принялся истово и громко молиться:
– Господи… да что же это такое? Да за что, господи?
– Умм… – кто-то вдруг застонал, совсем рядом.
Афоня вскочил с колен, бросился к ракитнику – оттуда и слышался стон.
– Господи… Кольша! Живой!
– Живой. – Красивое лицо юноши скривилось. – Только ранен малость – вон, в руку. Вовремя ты явился, Афонька… А ну-тко… помоги…
Пошатываясь, раненый поднялся на ноги и, оглядев усыпанную мертвыми телами поляну, застонал:
– О, святая София! Проклятые тевтонцы!
– Тевтонцы? – переспросил отрок. – А я же их видел – едва разминулся. Человек сорок отряд, и ехали вроде как в сторону Пскова.
– Не, не в Псков – просто к озеру, а там до Дерпта – на ладье.
– Я вначале думал: они это на службу…
– На службу? – Кольша скорбно покачал головой. – Не-ет, сволочам этим денег не надобно – вон, и возы наши не тронули. Не за добром явилися – за поражение свое мстят!
– Ты думаешь?
– Уверен… Сам посмотри.
Афоня оглянулся и вдруг увидал бегущую на поляну фигуру, в которой узнал тихого и невзрачного обозного паренька из простых – то ли возчика, то ли шорника, то ли просто слугу «на подхвате».
– Ого! – проследив за его взглядом, воскликнул Кольша. – Это ж Микита, челядин наш, раб! Э-эй, Микитка-а-а! Давай сюда-а-а-а!
Как и следовало ожидать, Микитка был испуган до дрожи и заикания:
– А я это… за водой, да-а… А они… Я смотрю – тут… Бух, бух… мечами, стрелами… Эвон, из ольшаника налетели… Язм в папоротниках схоронился, ага… Господи-и-и-и… что ж нам теперь делать-то?
– Не знаю!!! Не знаю, не знаю, не знаю!
Кольша, несмотря на весь свой гонор, тоже недалеко ушел от раба, разве что говорил более-менее связно, да вот только предложить ничего не смог, и, видя такое дело, Афоня взял ситуацию в свои руки – а что еще оставалось-то? Хоть кому-то – да надо. Почему ж не ему?
– Сперва похороним всех, – подумав, распорядился отрок. – Лопаты в телегах есть, давайте могилы копать. Потом крестики сладим, помолимся… А уж потом – поедем домой. Обоз-то цел!
– С ума сошел! – отмахнулся Кольша. – Вот так вот и поедем? Втроем?
– До озера доберемся, а там людишек наймем. – Афоня даже как-то сразу повзрослел, чувствуя нежданно-негаданно свалившуюся ему на голову ответственность, которую – отрок это хорошо видел – больше не был готов разделить никто: ни новгородский приказчик Кольша, ни – уж тем более – Микитка-раб.
О челядине тоже, кстати, следовало подумать.
– Ты чей раб, Микита? Дядюшкин?
– Его…
– Дядюшка Семен Игнатьич, упокой его, господи, вдовец… думаю, ты и не раб боле!
– Как это не раб? – вскинулся Кольша.
– Не раб! – твердо повторил Афоня. – Дядюшка – вдовец, и ныне хозяина тебе, Микита, нету.
– Что ж мне – в изгои, что ль? – Челядин в ужасе округлил глаза. – Скитаться? Совсем пропасть?
– Почему в изгои? – рассудительно промолвил Афоня. – Я так думаю, в рядовичи мы тебя в Новгороде поверстаем…
– В рядовичи?! – В карих глазах раба вспыхнула радость.
– Да, в рядовичи! Так, как служил – и будешь дальше служить, токмо уж по ряду. Да не бойся, не бросим, тем более – после такого вот… Нам бы обоз довести, тут ведь и соль, и крицы медные – многие кузнецы в Новгороде его ждут не дождутся. Раз уж мы живы – доведем, наймем возчиков – серебро у дядюшки было – искать надо. Ну, что смотрите? Обыщем всех да за лопаты. Нам еще до озера добираться.
С трудом, с передышками, но вырыли-таки могилы, погребли всех, срубили-поставили кресты. Потом по очереди стали читать молитвы, уж как умели, что знали…
Кольшу пару раз вырвало, и он ушел к ручью – умыться… А серебришко, кстати, – нашли! Правда, не так уж и много.
– Одному хватит, – оглядываясь на ушедшего Кольшу, тихо промолвил раб. – Видал, Афоня, как он на серебро зыркал? Собла-а-азн!
– Да какой соблазн? – усмехнулся отрок. – У Кольши в Новгороде и дом, и семейство – куда он денется-то?
– Как бы он нас не…
– Да что ты такое говоришь-то!
– Говорю ж – соблазн! – тряхнув темными кудрями, упрямо повторил Микита. – А Кольша – не святой Павел. Ничо, Афанасий, – спокоен будь, я уж за ним прослежу.
– Однако, – Афоня зябко повел плечом, хотя было довольно жарко, – смотрю, не шибко-то ты приказчика нашего жалуешь…
– Видал кое-что… – Снова оглянувшись, челядин понизил голос до шепота: – Его рыцарь один едва не пришиб… да Кольша заскулил – тот его в живых и оставил… Похоже, что одного – он, приказчик-то, последний и оставался – в ракитнике.
– Не убил, говоришь? – Юный охотник в недоверчивом удивлении вскинул левую бровь. – Так что ж – сжалился?
– Кто его знает? Может – и так.
– А зачем свидетеля в живых оставлять? Не знаешь? – Глянув на собеседника, Афоня махнул рукой: – Вот и я не знаю. А что за рыцарь-то?
– Такой, лет, может, тридцать или поболе. Лицом худ, бородка рыжеватая, острая… да, в левом ухе – серьга золотая!
– Золотая?
– Неужто рыцарь будет медяшку носить?
– Знаешь, Микита, тевтонские немцы не просто рыцари, но еще и монахи. По уставу орденскому у них вообще никаких серег быть не должно!
Тут вернулся и Кольша, разговор на том и закончился – парни запрягли лошадей и, связав возы цугом, неспешно подались по лесной дороге к Чудскому озеру, оставив за собой поляну, полную свежих могильных крестов. В ольшанике радостно щебетали птицы, над желтыми одуванчиками на показавшемся впереди лугу порхали разноцветные бабочки, а в синем высоком небе сияло солнце.
Трехмачтовая палубная ладья «Святитель Петр» под синим с серебряными медведями новгородским флагом вышла из ревельской гавани почти ровно в полдень и, повернув на восток, взяла курс к Нарве. Кормчий Амос Кульдеев, коренастый мужик с красным обветренным лицом и сивой бородкой, поглаживая нывший на погоду бок под темным бархатом длинного – по стокгольмской моде – кафтана, привычно перекладывал румпель и чувствовал, как под кормой ходит-поворачивается руль, устраиваемый на ладье на манер ганзейского когга. Никаких морских разбойников – хоть ладья и пустилась в путь одна – кормчий не боялся: во-первых – что тут и плыть-то? А кроме того, в сложившейся международной обстановке, когда Новая Русь властно выходила на Балтику, мало кто б сейчас осмелился напасть на новгородское судно: все договоры с могущественной Ганзой новые властелины Руси подтвердили, а недобитых тевтонцев – первый на Балтике флот! – Великий Всея Руси князь Георгий втихомолку поддерживал; так, на всякий случай – в противовес императору Сигизмунду и… против той же Ганзы – мало ли, обнаглеют купчишки?
Каких-либо многочисленных и хорошо организованных пиратских групп, типа не так давно разбитых теми же тевтонцами и Ганзой витальеров, нынче на Балтике не обреталось, однако всякая зубастая мелочь, конечно, шастала – на тех пираний имелись на «Святителе Петре» акульи зубы в виде дюжины секретных «новгородских бомбард», придуманных все тем же князем Георгием, и бьющих тяжелыми оперенными стрелами верст на шесть. Впрочем, бомбарды – это на спокойной воде только, а для всяких неожиданностей держал купчина Амос на своем корабле хорошую абордажную команду в лице бывших ушкуйников знаменитой хлыновской ватаги, некогда заставлявшей дрожать всю Орду, о царице которой – великой ханше Айгиль – ходили самые разные слухи один нелепее другого. Говорят, слухи те распускали враги-конкуренты ханши, в первую голову царевич Яндыз и все такие прочие. Вообще же, теперь не Русь Орде дань платила, а Орда – Руси: за спокойствие от хлыновцев, коих сам великий князь обещал ордынской царице унять – и унял-таки, часть ватажников взяв непосредственно под свое крыло в целях создания мощного флота, а часть – большую! – отправив на покорение Сибири.
Об ордынской правительнице нынче матросики и говорили, косясь на низкие и лесистые ливонские берега, тянувшиеся по правому борту. Особенно не унимался юнга, по-новгородски – «зуек», ма-аленькая такая птичка, на которую как раз и походил юнга – светлоокий, рыжий и веснушчатый до такой степени, что даже не было видно щек. Все так парнишку и кликали: Рыжий, а не Тимоша. Вот этот Рыжий-то всю команду на дальних переходах обычно и забавлял – за то, по большому-то счету, в юнги и взяли.
Нынче же что-то про Орду разговор зашел – судно исправно шло по ветру хорошо знакомым путем, палуба была надраена – больно смотреть, все работы по кораблю исполнены, что еще делать-то? Только лясы точить.
– Говорят, великая ханша Айгиль нраву злобного, а на вид – ну, сущая ведьма! Старая вся, морщинистая, глазки узенькие – татарка ведь, – лицо, как блин, а щеки такие, что…
– Ты на свои щеки посмотри, чудо брехливое! – не выдержав, расхохотался один из ушкуйников, десятник Фома, до того спокойно облокачивавшийся на увешанный красными щитами фальшборт и внимавший отроку вполне благосклонно.
Зуек ничуть не обиделся – он вообще никогда ни на кого не обижался, не имел такой дурацкой привычки: ну, насмехаются люди, так и что с того? И это еще с какой стороны посмотреть: можно ведь сказать – насмехаются, а можно – просто смеются, веселятся, радуются.
Ушкуйник этот, Фома, сразу видно – злодей, разбойник из разбойников: в ухе серьга золотом горит-плавится, пальцы перстями унизаны, сабли рукоять – самоцветами, кафтан свейский, с узорчатым поясом, на ногах – высокие сапоги, а уж лицо… вот уж кто про щеки молчал бы! На свои посмотрел бы – бритые, будто немец какой! Но бритые, может, день назад, а то и все два, и ныне в темной щетине, будто стерня. Вообще, Фому на ладье сторонились, как и ушкуйников его, лиходеев… И зачем только Амос Кульдеевич таких на борт взял? Говорит: от разбойников… так вот они теперь на корабле и есть – разбойнички-ушкуйнички – а кто же?
– Я ж не сам по себе вру, дяденька, – улыбнувшись, учтиво сказал Тимоша. – Просто передаю то, что своими ушами на торговой стороне слыхал от гостей сурожских.
– Врут твои гости сурожские, как сивые мерины! – Ушкуйник неожиданно потрепал отрока по плечу и уселся на скамью-банку рядом. – Ты не обижайся, зуек. Просто я царицу Айгиль видел – в походе ордынском с князем великим был.
– Ах, вон оно что!
Свободные от вахты матросы обступили ушкуйника широким кругом, даже шкипер Амос Кульдеев, кликнув сменщика, подошел – бывалого-то человека всегда интересно послушать.
– Расскажи, Фома, расскажи!
– Да не рассказчик я…
– Так, говоришь, у самого князя Егора служил?
– У воеводы Никиты по прозвищу Купи Веник.
– О! То человек знаменитый. Воин! Так что ханша?
– Никакая она не старая. – Улыбнувшись, ушкуйник мечтательно посмотрел в небо, на белых, кружащих над мачтами чаек. – Наоборот – молода даже очень. И красива – как солнце, не отвести взгляд. Худовата – да… как и наша княгинюшка, но красавица и, говорят, умна. К людям молодая ханша приветлива, за что народ ее и любит, но на расправу крута…
– Все они на расправу круты, – вставил кто-то, и кормчий тотчас погрозил охальнику кулаком – мол, ты тут смотри, паря, не очень-то власть критикуй, не то…
Так вот почти до самого вечера и проговорили, а вечером погода испортилась, как оно обычно на море Варяжском бывает. Ветер злой да колючий подул, погнал волну, натянул исходящие мелким дождем тучи, да так, что кормчий решил ночью в бухточке знакомой на якорь встать, отсидеться. Так-то, если бы погода позволила, можно было б и ночью идти – просто мористее взять, чтоб, не дай бог, не наскочить на песчаную отмель. Да Амос Кульдеев тут все мели знал! И все же непогодь решил переждать – оно спокойней как-то.
Встали на якорь в местечке приметном – напротив кривой сосны, да сплавали на лодке к берегу, набрали ключевой водички. Капал по палубе дождь, и спать все полегли рано: кому положено – в каморках на корме, кто – в подпалубье, остальные же разбили меж мачтами узкий шатер, в нем и улеглись вповалку.
Рыжий зуек, уже засыпая, слышал, как кормчий наказывал вожаку ушкуйников:
– Ты уж смотри, Фома, в оба глаза. За кормой у нас – я приметил – постоянно чужие паруса белели, три корабля – не менее. И все, как мы шли, не отставая и вперед не гонясь.
– Ганзейцы?
– Может, они. А может, орденские. Нам не враги, но… в море-то всякое случиться может. Особенно – когда на всех одну бухту делить.
– Ничо, Амос Кульдеевич, – с усмешкой заверил Фома. – Ужо не провороним.
– Ты, ежели вдруг какой чужой корабль в бухту войдет, меня разбуди все ж.
Тимоша уснул рано, рано и проснулся – в щелке шатра светлело уже, нынче ночки короткие. Дождь, похоже, кончился – по палубным доскам капли не стучали, и небо – привстав, парнишка глянул в щелку одним глазком – от тучек очистилось и казалось белым, как творог, лишь на востоке, за соснами, алела заря.
Выбравшись на палубу, отрок поежился – брр! – промозгло было кругом, склизко, однако же организм властно требовал освободиться от лишнего, пришлось идти на нос судна.
Справив свои дела, полусонный зуек поплелся обратно в шатер, досыпать, да чуть было не споткнулся обо что-то тяжелое. И что б это такое могло валяться на палубе? Вчера ведь только приборку делали. Пожав плечами, Тимоша опустил голову… и тут с него сразу слетел весь сон! Под ногами лежало тело знакомого матроса, вахтенного, и не просто так лежало – скажем, пьяным, – а со стрелой в боку!
– Господи! – перекрестившись, Тимоша открыл было рот – покричать, позвать кого-нибудь да, наконец, просто разбудить всех.
Однако не успел – какая-то жутко огромная фигура в мокром черном кафтане, отделившись от мачты, с размаху плеснула зуйку кулачищем в зубы, да так, что несчастный мальчишка полетел за борт и, подняв брызги, скрылся в набежавшей жемчужно-серой волне.
А на судне началась драка!
Часть вахтенных была убита еще поутру стрелками с подошедших в бухту судов – трех пузатых коггов с орлами и бело-красными флагами славного ганзейского города Любека! Ударили из арбалетов, затем тут же – тихо! – пошли на абордаж, правда, ушкуйники Фомы оказались наготове. Даже из пушки успели пальнуть – попав в один из коггов, однако вражин оказалось на удивление много, как и спущенных с чужих кораблей лодок.
На «Святителе Петре» утробно затрубил рог! Еще раз ударила бомбарда, на этот раз – мимо, лишь вспенив белыми брызгами море.
– Тесни их с кормы, парни! – размахивая саблей, скомандовал ушкуйник Фома. – Кто на Бога и Великий Новгород?
Завязалась рукопашная схватка, в коей ушкуйники вели себя более чем достойно и, несмотря на подавляющий численный перевес врагов, уложили немало пиратов. А перевес-то был изрядным, против тридцати пяти – пара сотен, точно.