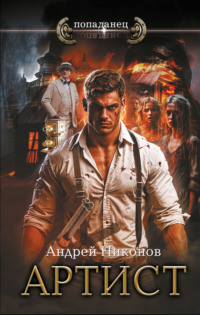Kitobni o'qish: «Артист»

Все персонажи и их имена, географические названия, детали быта, мест, технических устройств и методов работы правоохранительных органов в произведении вымышлены, любые совпадения, в том числе с реальными людьми, местами и событиями, случайны. Мнения, суждения и политические взгляды автора и героев книги никак не связаны.
© Андрей Никонов, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Пролог
Октябрь 1926 года. Москва
Первый этаж небольшого пристроя к дому 13 по Фурманному переулку занимал писчебумажный магазин. Владельцем артели «Бумага и краски» значился Семён Петрович Решетников, сорока семи лет, беспартийный, из мещан. Он жил в квартире на втором этаже, прямо над лавкой, куда вёл отдельный вход с улицы. В обычные дни товарищ Решетников, одетый в косоворотку, холщовые брюки и синий фартук, сам стоял за прилавком, отпуская покупателям анилиновые чернила в стеклянных бутылочках и циркули в деревянных пеналах. Весь магазин занимал небольшую комнату, тесную и пыльную, но клиенты не жаловались – их было немного. Такой же товар можно было купить в совторге по соседству, на Садово-Черногрязской, и гораздо дешевле.
Редкому покупателю Решетников жаловался на тяжёлую жизнь, расхваливал особые сорта бумаги, которые привозили, по его словам, из-за границы, и предлагал сравнить свои чернила и чернила из совторга. Хозяин магазина уверял, что у него совсем другой товар, с насыщенным цветом и настоящим блеском. Покупатели сравнивали, брали бутылочку за пятнадцать копеек и уходили, а пятиалтынная монета кидалась в кассу, к небольшой кучке мелочи и сиротливым рублёвым бумажкам. Настоящий товар продавался с заднего хода, тюки мануфактуры, закупаемые в советских трестах Нижнего Новгорода за бесценок, расходились по московским мастерским втридорога, платили за них не мелочью, а бумажными червонцами. Иногда вместо денег приходилось брать драгоценными безделушками, мехами и столовым серебром, эти вещи Решетников сбывал через брата, у которого был ломбард на Кузнецком мосту.
В семь часов вечера магазин закрывался, хозяин снимал фартук, запирал дверь на засовы и по чёрной лестнице поднимался на второй этаж, в квартиру. К этому времени с работы в сберегательной кассе возвращалась его жена, Софья Львовна, отчитывала приходящую прислугу и помогала ей накрыть на стол. Прислуга готовила по понедельникам, средам и пятницам, в восемь вечера Решетников выпроваживал её из дома.
В этот вечер всё шло так же, как и в другие дни. Пожилая женщина, дальняя родственница Решетникова, получила от него список продуктов, два червонца на расходы, посетовала, что мясо на рынке подорожало, и ушла. Семён Петрович запер за ней нижнюю дверь на засов, а верхнюю – ещё и на ключ, который оставил в замочной скважине и повернул на четверть оборота.
– Как прошёл день, душа моя? – спросил он жену, намазывая на свежую булку сливочное масло.
– Сегодня заходила Светочка, взяла десять рублей.
Светочка была дочерью Решетниковых, комсомолкой-активисткой, и с родителями-буржуями ничего общего иметь не желала. Но даже у комсомолок и активисток существуют потребности, которые зарплата в машинописном бюро никак не покрывала, так что Свете приходилось скрепя сердце регулярно одалживать у матери десятку, а то и две.
– Обещалась в воскресенье зайти, – добавила Софья Львовна и зачерпнула ложкой черной икры из вазочки. Доктор уверял, что для её ослабленных лёгких этот продукт необходим. – Познакомит со своим новым молодым человеком, между прочим из уголовного розыска.
– Только легавых нам тут не хватало, – Решетников раздражённо смял салфетку, – а ну как заподозрит чего. Ты уж, Софочка, приберись, чтобы лишние вопросы не задавал. Сколько сегодня удалось сделать?
И разговор перетёк из семейного в деловой – Софья Львовна в рабочее время меняла золотые монеты, которые несло население, на советские бумажные деньги по официальному курсу. Для себя, а точнее для мужа, она производила обратный обмен, за месяц через сберегательную кассу удавалось прокрутить двадцать, а то и тридцать тысяч рублей. Золотые монеты Решетников, в свою очередь, обменивал на бирже с прибылью.
К десяти вечера все домашние дела были переделаны, супруги выпили на ночь тёплого молока с сахаром и отправились в спальню, и через полчаса громкий храп Семёна Петровича перемежался немелодичным посвистыванием мадам Решетниковой. За окном окончательно стемнело, там переругивались извозчики, какой-то пьяный прохожий загорланил песню, но спящих супругов привычный шум не разбудил. В коридоре дверь шкафа приотворилась, чуть скрипнув, и оттуда вылез невысокий подросток. Он потянулся, несколько раз присел, разминая руки и ноги, потом достал из кармана бутылочку с конопляным маслом, капнул в замочную скважину и на шпингалеты. Ключ повернулся беззвучно, ригели выехали из накладок, петли, тоже получившие порцию масла, легко провернулись. То же самое малец проделал с дверью внизу, кашлянул.
Из-за угла показались четверо, впереди шёл невысокий коренастый мужчина с повязкой на глазу, за ним совсем молодая, лет двадцати с небольшим, женщина в кожаной куртке и косынке. Одноглазый остановился возле пацана, требовательно на него посмотрел.
– Спят, – сказал тот, глядя чуть в сторону, один глаз у мальца косил. – Как покойники. Дядь Петь, накинуть бы, весь день в шкафу торчал, аж ноги свело.
– Добавь ему, – распорядился Пётр и скрылся за дверью.
Женщина и второй мужчина, высокий, жилистый, в франтоватой одежде, со сломанным набок носом и тонкими щеголеватыми усиками, начали подниматься вслед за ним; последний, тощий, с рыжими волосами, остановился возле пацана, достал из кармана тощую пачку денег, отсчитал несколько бумажек.
– Беги, Федька, – сказал он, – не твоего ума там дело будет.
Федька придурковато улыбнулся, схватил деньги и скрылся в темноте, а мужчина зашёл в дом вслед за подельниками. Все четверо сгрудились в коридоре, один из мужчин зажёг спичку, у женщины в руках появился листок со схемой комнат.
– Тут спальня, прошу, господа.
Голос у грабительницы был нежный и мелодичный, согласные она слегка тянула, словно заикаясь. Одноглазый, Пётр Лукашин, недовольно покачал головой, но спорить не стал, толкнул дверь.
С молодой женщиной он познакомился в исправдоме, где они с братом отбывали год, определённый Сокольническим судом. После смерти Павла Лукашина и Германа Радкевича все грехи удалось повесить на них, и оставшиеся в живых братья Лукашины отделались минимальным сроком. Их определили в камеру к пролетариям, условия содержания были сносные, кормили не так чтобы хорошо, но обильно, и даже отпускали на прогулки по городу.
Марию Брумель привело в тюрьму убийство на почве ревности; народные заседатели вообще были готовы её отпустить, благо жертвой оказался какой-то советский буржуй, но подкачало купеческое происхождение, и судья определил её в «Матросскую тишину» на три месяца. Женский контингент содержался в другом крыле, заключённые всё равно пересекались – в очереди за пайкой или в постирочную. Для судьи, арестантов и надзирателей оставалось загадкой, как обладательница печальных карих глаз и невинного юного личика, усыпанного мелкими веснушками, умудрилась попасть за решётку. Не в силах устоять перед ангельской внешностью новой знакомой, Петька выложил ей то, что знал о деловых партнёрах Шпули, прячущих капиталы под матрацем. Одним из таких торговцев как раз был Решетников, он вечно жаловался на трудную жизнь, не возвращая вовремя деньги, что, по мнению Лукашина, значило одно – они у него наверняка водились. К идее пощипать коммерсанта девица Брумель, которая просила, чтобы её называли Мурочка, отнеслась равнодушно, и Пётр сам не понял, как принялся её убеждать сходить вместе на дело. Наконец, когда Петьку и Зулю выпускали, Брумель согласилась – ей как раз оставалось сидеть ещё несколько дней.
Решетников сквозь сон почувствовал, как его стащили с кровати, бросили на пол и придавили коленом горло. Пока он пытался вздохнуть, коммерсанта спеленали как младенца, засунули в рот вонючий носок и водрузили на стул. Рядом сидела связанная Софья Львовна в ночной рубашке, испуганно выпучив глаза.
– Добрый вечер, товарищи, – сказал Зуля, улыбаясь и доставая из кармана револьвер, – а ну сдавайте припрятанное народное добро.
Если бы Решетников мог, он бы растянул губы в улыбке, но носок мешал. За восемь лет, прошедших после большевистской революции, его грабили как минимум раз десять, и таких вот прытких бандитов он навидался. Кто-то приходил с фальшивым мандатом на обыск, кто-то – с настоящим, были и как эти, без повода, всем им нужны были деньги. Для этого у Решетникова были сделаны в квартире нычки, якобы тайные, с мелочью – недорогими безделушками, сотней царских червонцев и пачкой советских. Другие ценности были надёжно припрятаны, а основной капитал Решетников держал совсем в другом месте. Лучше отделаться несколькими синяками, сломанным ребром и двумя-тремя тысячами рублей, чем отдать жизнь. Грабители обычно забирали то, что им подсовывали, и уходили.
Коммерсант дождался сильных двух ударов в живот, сделал испуганное лицо и кивнул на картину на стене, за которой скрывался железный ящик. Следующие четверть часа супругов избивали, несильно, так, чтобы припугнуть, и на свет появлялись немногочисленные коробочки, узлы и свёртки. Два десятка дутых колец, серёжки с недорогими камушками, пять столбиков золотых кружочков, завёрнутых в папиросную бумагу, коробка из-под сандалий, набитая рублёвыми купюрами вперемешку с мелочью, меховая шуба, норковый палантин, отрез английской шерстяной ткани и шесть пар совершенно новых кожаных штиблетов шимми размером в сорок семь парижских штрихов. Одной заначки на месте не оказалось, но в суматохе на это никто внимания не обратил. Наконец Решетников закусил губу и выдержал несколько сильных ударов.
– Вроде всё? – с сомнением сказал рыжий.
– Наверное, – протянула женщина, – но по глазам вижу, что-то хозяин скрывает.
Она посмотрела на Решетникова ласково и с укором, словно на хорошего знакомого, который совершил глупость, сходила на кухню, принесла столовый нож и протянула Зуле. Тот, недолго думая, резко вогнал Решетникову нож в бедро.
– Зачем же ты так? – тихо сказала Мурочка хозяину дома, который скорчился от боли. – Сам себе хуже сделал, подумай пять минут, пока чай приготовлю. Петенька, ты ногу ему перетяни, а то ведь помрёт.
Лукашин недовольно кивнул и вытащил из хозяйских брюк ремень. Пять минут Решетников корчился и стонал от боли, а потом женщина вернулась, в руках у неё была фарфоровая чашка из кузнецовского сервиза. Она взяла ещё один стул, села напротив Семёна Петровича, лицом к лицу.
– Отдашь всё, что есть, один из вас умрёт… – вздохнула она, отхлебнув чай. Голос женщины звучал буднично, словно разговор шёл о неважных вещах. – Быстро, без мучений, а второго оставим в живых. Не отдашь, перед смертью мучиться будете оба, Пётр у нас большой мастер по таким делам. Ты ведь мастер, да?
Одноглазый довольно хмыкнул и достал из петли на поясе молоток. Решетников попытался сказать, что он всё понял и готов, но Петя не обратил внимания на мычание хозяина дома, он подошёл к Софье Львовне, рванул левую руку на себя и ударил по локтю раз, потом ещё и ещё. Решетникова замычала от боли, слёзы брызнули из глаз, она чуть не проглотила носок и закусила до крови губу.
– Да не расстраивайся ты так, локоть – дело наживное, – грабительница отставила чашку, подошла к подвывающей Решетниковой, погладила её по щеке, – заживёт. Ты уж не молчи, а то Пётр, если всерьёз возьмётся, то на тебе живого места не оставит, и на муже твоём. Зачем вам зря страдать? А давайте вот как сделаем, кто из вас больше добра сдаст, тот и живым будет. Говорить не надо, пальцем ткните, а дальше уж мы сами.
Первой, переглянувшись с мужем, быстро сдалась Софья Львовна. Она доковыляла до тумбочки под присмотром рыжего, показала, где фальшивая стенка, между ней и настоящей были неплотно набиты пачки денег, хоть и не рублями, а бумажками по три червонца. После этого супруги по очереди выкладывали припрятанное. Два браслета, ожерелье и несколько колец, не чета тем, что нашли раньше, вещи действительно изящные и с крупными камнями, золотые царские монеты, две тысячи штук, английские фунты и американские доллары, свёрнутые в цилиндры, всего набралось на семьдесят пять тысяч, не меньше, а то и на сто.
– Ну что же, – когда пыл хозяев дома иссяк, сказала Мурочка, – вы – большие молодцы, хотя мы на большее рассчитывали. Петенька, достань у них изо рта кляпы. Славно потрудились, даже не знаю, как и оценить, кто выиграл.
– У нас больше ничего нет, – тихо сказал Решетников, – пожалуйста, заберите всё и уйдите. Зачем дальше мучить, какой смысл? Мы всё отдали, в милицию не побежим, сами понимаете, почему.
Его жена закивала быстро-быстро. Грабительница с сомнением покачала головой.
– Кончать их надо, – сказал Пётр, – они нас запомнили, потом или легавым сдадут, или деловым.
Рыжий кивнул, он был полностью согласен с одноглазым. Третий грабитель отвёл глаза в сторону. Он вообще участия в пытках и поисках почти не принимал, а то, что делал – нескладно получалось. Франт явно был обузой в этой компании.
– Но я обещала оставить в живых одного, – нерешительно и даже как-то виновато улыбнулась Мурочка, – это что, получается, я лгунья?
Зуля засмеялся, ему шутка понравилась. Мурочка с усилием вытащила нож, который до сих пор торчал в бедре Решетникова, повертела в тонких изящных пальцах и всадила ему в глаз. Коммерсант захрипел и тут же обмяк, свалившись на пол неряшливым кулём. Софья Львовна всхлипнула, а в её взгляде появилась надежда, которая тут же угасла вместе с жизнью… Одноглазый размахнулся и с уханьем опустил молоток ей на макушку, мозги вперемешку с костями и кровью разлетелись в разные стороны. Грабительница брезгливо поморщилась, достала из кармана куртки кружевной платочек и аккуратно сняла окровавленную косточку с рукава.
– Заканчиваем, – распорядилась она.
Хозяйский палантин женщина набросила себе на плечи, взяла коробку с драгоценностями. Тяжёлый саквояж с золотом тащил одноглазый, рыжему достался чемодан с советскими дензнаками, остальное, что было, завязали узлом в простыню и вручили франту. На окровавленные тела накинули одеяла. Бандиты, совершенно не таясь, вышли из дома и погрузили добычу в старенький «студебеккер». Одноглазый сел за руль, рядом с ним на пассажирской части дивана примостился рыжий, франт и атаманша уселись позади. Машина тронулась и помчалась по Марксовой улице, бывшей Старой Басманной, после Елоховской площади свернула направо, к Лефортово. Женщина загадочно улыбалась и пила шампанское из горла.
– Первый раз, и всё получилось, – с тихим восторгом сказала она, – это же так просто. Раз и всё! Как в романе! Вы такие молодцы, особенно ты, Петенька, прямо умничка. И ты, Илюша, тоже молодец.
«Студебеккер» проехал к путям железной дороги, остановился возле пустыря.
– В чём дело? – спросил франт, он всё это время равнодушно смотрел в окно, словно произошедшее его никак не касалось.
– Здесь разбежимся, – сказал рыжий, – дальше мы своей дорогой, а вы своей. Забирайте барахло и валите.
В подтверждение его слов в руках у Петра появился револьвер, он нацелил его на женщину. Рыжий ковырялся в кармане, пытаясь вытащить наган, то тот зацепился за петлю в ткани и не поддавался. Мурочка закатила глаза, ойкнула от страха, и что есть силы ударила одноглазого бутылкой по голове. Раздался выстрел, пуля чиркнула ей по плечу, проделав в диване отверстие. Франт, не дожидаясь, когда рыжий справится с пистолетом, всадил непонятно откуда появившийся нож ему в шею.
– Разбежаться, – женщина вздохнула, прижимая платок к царапине. – Базиль, ты слышал? Эти идиоты решили нас оставить ни с чем. Сам справишься?
Франт кивнул, вылез из машины, вытащил сначала одноглазого, который был ещё жив и мычал, потом рыжего, оттащил тела подальше от дороги, к деревьям, чиркнул по горлу сначала одному, потом другому, убедился, что подельники мертвы, и уселся за руль.
– Куда дальше? – невозмутимо спросил он.
– На юга, – Мурочка перебралась на переднее сиденье. Она обняла франта за шею и поцеловала в щёку, вытащила из кармана куртки пакетик с белым порошком, насыпала на треснувшее зеркальце, вдохнула. – На юга, туда, где тепло и плещет море. Где горячий песок и пальмы.
– В Персию? – уточнил Василий, заводя заглохшую машину.
– С этими грошами? Нет, мы сперва добудем миллионы, мой дорогой братец. И только потом – в Париж или Вену. Будем жить как короли, весь мир упадёт к моим ногам. Я, пока в каталажке сидела, поняла, что в этой стране сделать деньги легче лёгкого, только попроси, сами отдадут. Трогай.
Глава 1
Сентябрь 1928 года. Пятигорск
Город Пятигорск несколько лет назад стал центром Терского округа. В двадцатом году губернский Совет переименовал его в Анджиевск в честь героя Гражданской войны Григория Анджиевского, повешенного армией Деникина на горе Казачка, но в 1925-м, когда город передали в Главное курортное управление, прежнее название вернули. По сравнению с другими курортными городами, пустеющими в несезон, Пятигорск был достаточно благоустроен и развит. Электрическое освещение питалось от тепловой электростанции с дизельными генераторами и от станции на реке Подкумок, улицы, застроенные каменными зданиями, были вымощены булыжником почти до самых окраин, по городу ходил трамвай, работали промышленные предприятия, частные артели, типография и мясокомбинат.
Железнодорожная станция Северокавказской дороги, оборудованная длинным перроном с навесом и зданием вокзала на бывшей Ярмарочной площади, перестроенным аккурат перед войной инженером Мизернюком, не то чтобы бурлила, а так, побулькивала, в ожидании литерного поезда «Москва – Кисловодск». Носильщики готовили тележки, чтобы подхватить баулы и чемоданы отдыхающих и бережно дотащить до извозчиков. Те тоже не дремали, расчищали гривы своим тягловым лошадкам и лениво переругивались из-за очереди. До конца курортного сезона оставалось меньше месяца, клиент с деньгами возвращался в большой город или уезжал в Ялту и Гурзуф, среди прибывающих курортников преобладали отдыхающие рангом пожиже да постояльцы новых советских санаториев, считающие каждый рубль.
Тепловоз Гаккеля показался со стороны Минеральных Вод в четыре часа тридцать минут, когда дневная жара немного спала, не спеша подволок к перрону двенадцать пассажирских вагонов разного класса, почтовый, багажный и вагон-ресторан, остановился, дав приветственный гудок. На подножке стоял машинист в кителе и фуражке с эмблемой НКПС, он щурился и вытирал посеревшим платком пот с лица, проводники бегали по вагонам, предупреждая пассажиров, что поезд будет стоять сорок пять минут. Люди, покидающие состав, разделились на две части: первые тащили котелки к колонке с водой, бежали в буфет или в пристанционный туалет, вторые шли налегке к первому за тепловозом багажному вагону, возле которого выстраивались носильщики. Травин и Лиза вышли из пятого по счёту вагона, окрашенного в канареечный цвет, почти последними. В одной руке Сергей держал полосатый чемодан, а в другой – только что вышедшую книгу начинающих писателей Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». С плеча у него свисал чехол с ружьём. У Лизы за плечами был брезентовый рюкзачок, она разглядывала карту Пятигорска из путеводителя под редакцией Батенина.
– Вон те горы, впереди, называются Бештау, что значит пять вершин, а вон там Машук и Провал, – она ткнула пальцем вправо, – если туда забраться, то можно увидеть Эльбрус. Дядя Серёжа, мы туда заберёмся?
– На Эльбрус?
– Нет, на Машук.
– Ещё как, – согласился Травин, озираясь. – Но первым делом пообедаем нормально. А потом сразу в горы.
– Или по городу погуляем, тут знаешь сколько интересных мест, – девочка важно потрясла книгой, – на целый месяц как раз хватит. И Лермонтов здесь жил, и Пушкин, и товарищ Киров.
Рядом с ними остановилась тележка, выше человеческого роста уставленная чемоданами и коробками, носильщик важно отдувался и отгонял муху, он сопровождал пару немолодых людей, низенького толстяка в белой панаме и сандалиях и полную высокую даму в мужской рубахе и штанах. Толстяк затряс Травину руку.
– Всенепременно жду, Сергей Олегович, на премьеру. Ваш покорный слуга в роли Шамраева – этого вы не забудете никогда.
Голос у толстяка был глубокий и сильный.
– Конечно, Пантелеймон Кузьмич, – Сергей улыбнулся.
Супружеская пара подсела в купе в Туле, двое актёров провинциального театра сбежали, как сказала жена толстяка, словно перелётные птицы от надвигающейся стужи в тёплые края, и собирались выступать в антрепризе в Пятигорском городском театре. Толстяк оказался отличным попутчиком – он пел, читал монологи и рассказывал анекдоты, а ночью практически не храпел. За него с этим отлично справлялась супруга.
– И всё же вы, молодой человек, поразмыслите над моими словами, с такой фактурой просто грех не выйти на сцену. Как вы осадили того хама из соседнего купе! У меня аж поджилки затряслись, я думал, испепелите на месте в прах. Несколько слов, надменный взгляд, короткие скупые жесты, и всё, катарсис, безоговорочная победа. Лучшего призрака в «Гамлете» не найти, поверьте, я их десятками перевидал. Ну что же, желаю здравствовать.
Актёр приподнял панаму, обнажив обширную потную лысину, и заспешил за своим имуществом, а Травин и Лиза через здание вокзала вышли на площадь. Там сновали носильщики с тележками, вещи перебрасывались на повозки, лошади били копытами по булыжникам, вокруг царил шум и гам. Конные экипажи один за другим растворялись в городе, немногочисленные пассажиры без вещей ждали трамвай.
– На трамвае поедем или на пролётке? – спросила Лиза.
Девочка зевала, прикрывая книгой лицо, за двое суток пути она устала. Травин посмотрел на трамвай, который брали штурмом прибывшие пассажиры, и сделал шаг к веренице извозчиков.
На площадь вылетела пролётка, а за ней, почти вплотную – красный «Фиат 501». В пролётке, положив руку на чемодан, сидел высокий молодой человек мощного телосложения с открытым лицом и пухлыми губами, в итальянском автомобиле на заднем сиденье – тощий и очень бледный мужчина с лысиной, окружённой кудряшками, рядом с ним невыразительный лысоватый брюнет в косоворотке. Гужевой и самоходный транспорт остановились один рядом с другим, отчего лошадь занервничала. Кудрявый перелез к здоровяку и начал его в чём-то убеждать. Слышались слова «сроки», «договор», «аванс», «встретимся в суде» и «я вас пропесочу по профсоюзной линии». Его собеседник молча слушал, а когда поток угроз иссяк, поднялся. Ростом он был как бы не выше Травина.
– Нет, нет и ещё раз нет. Через пятнадцать дней у меня съёмки в Одессе, а до этого антреприза в Ростове. Мы с вами, Свирский, договорились заранее, доснимете сцены и без меня. Жду перевод с окончательным расчётом к следующей неделе.
– Ну как же так, товарищ Охлопков! А смета? Матвей Лукич, скажите.
Невыразительный Матвей Лукич достал из портфеля пачку бумаги, взмахнул ей и начал нудно перечислять цифры. Охлопков слушать его не стал, махнул рукой, отодвинул Свирского, спрыгнул с пролётки и широкими шагами направился к вокзалу. За ним еле поспевал носильщик с двумя кожаными английскими чемоданами. Водитель «фиата» всё это время невозмутимо жевал спичку.
– В гостиницу, – распорядился Свирский, возвратившись на заднее сиденье автомобиля.
«Фиат» чихнул сизым выхлопом и уехал обратно, в сторону Машука, а пролётка осталась стоять на том же месте.
– На извозчике, – ответил Травин и закинул в повозку сначала чемодан, а потом Лизу с рюкзаком и путеводителем. – Давай к «Бристолю». Почём нынче овёс?
– Ежели в «Бристоль», то полтора целковых, – ответил сообразительный извозчик, – плюс двадцать копеек за срочность.
– Мы не торопимся.
– Все куда-то торопятся, – философски ответил возничий и дёрнул поводьями, – а ну давай, милая.
Милая не торопясь затрусила за трамваем, грохотавшим по Советскому проспекту. Открытый вагон с деревянными скамьями, поставленными вдоль движения, был битком набит отдыхающими, металлические колёса бились о рельсы. Лошадь, поднатужившись, обогнала его и остановилась на углу улицы Карла Маркса возле четырёхэтажного здания с балконами, лепниной и башенками-лоджиями. Трамвай завернул, выбив искру из рельсов, и помчался дальше, к Провалу.
Гостиница «Бристоль», расположившаяся у подножия Машука рядом с Цветником и домиком, где когда-то жил Лермонтов, переживала второе рождение. До событий 1917 года она считалась одной из самых престижных и комфортабельных на всём Северном Кавказе, большинство номеров имели, помимо отдельной передней, спальню, гостиную, балкон, телефонный аппарат и электрическое освещение. Цена на семейные номера с ванными доходила до 15 рублей за сутки. Но потом судьба гостиницы повисла на волоске, за несколько революционных лет здание занимали делегаты Второго съезда народов Терской области, ЦИК Северокавказской республики, сыпнотифозный госпиталь, штаб казачьего полка Донского войска и реввоенсовет 11-й армии РККА во главе с Кировым. В 1921 году главное здание отдали частным арендаторам, которые попытались вернуть «Бристолю» былой блеск. В номера вернули старую мебель, на первом этаже распахнули двери ресторан и концертная зала, а в дальнем крыле снова начала работать радиологическая лечебница.
Возле центрального входа стоял знакомый по вокзальной площади красный «фиат». Рядом с ним важно прохаживался швейцар, он за гривенник был готов распахнуть дверь новым постояльцам, носильщик присматривался к полосатому чемодану, но Сергей подхватил багаж, Лизу и, сверяясь с пометками на листе бумаги, зашёл в северный корпус, выходящий на улицу Красноармейская. Здесь обстановка была попроще, дверь пришлось открывать самому, а за левой конторкой сидела строгая дама из управления курортов Кавминвод.
– В санатории Уптона мест нет, могу вас здесь заселить. Только за номер придётся доплатить, товарищ, остались повышенной комфортности, с туалетом и балконом, – сказала она, проверив документы и обмахнувшись веером, – восемьдесят копеек с персоны в сутки. Лечение оформите сами в курортной больнице, там вам всё, что прописали, сделают. Девочке положено питание в столовой номер три, вот талоны. Для вас питание и курортные услуги по таксе, оплата тут же, в кассе, но, если пожелаете, можете сами столоваться.
– Мы сами.
Травин заплатил тридцать два рубля, взял квитанцию, талоны, книжечку, напечатанную на серой газетной бумаге, отсчитал мелочью сорок пять копеек за туристический путеводитель с картой и снова подхватил чемодан. Стоило отойти от дамы с веером, к ней поспешил военный с тремя шпалами в голубых петлицах, со спутницей в цветастом сарафане и двумя пацанами-близнецами лет двенадцати. Военный прихрамывал и опирался на трость, был он немногим старше Травина.
За правой конторкой заселяли, Сергей обменял квитанцию на запись в толстой книге и ключ на металлической цепочке с номером 12 и по лестнице с ковром поднялся на второй этаж. Им с Лизой досталась комната с прихожей, двумя кроватями, диваном, двумя мягкими стульями на гнутых ножках и столиком на балконе.
– Прямо-таки гамбсовский гарнитур, – сказал молодой человек, поёрзав на стуле, он всё ещё находился под впечатлением от перечитанной книги. – Как думаешь, Лиза, там внутри сокровища есть?
И тут же о своём вопросе пожалел, девочка достала перочинный нож и всерьёз решила проверить. Она, несмотря на сонливость, была в приподнятом настроении, вместо привычной школы и новой учительницы математики, которая появилась в школе вместо Варвары Лапиной и Лизу почему-то сразу невзлюбила, им предстояло провести целый месяц на курорте. О курортах Лиза знала только из газет, здесь постоянно веселились, очень много ели и гуляли по разным интересным местам. Дяде Серёже дали целый месяц отпуска, за это время нужно успеть обойти всё вокруг, и горы, и музеи, и в театр сходить, и заехать на обратном пути в Москву на несколько дней – в столице они были всего два часа, перешли через Каланчёвскую площадь с Октябрьского вокзала на Рязанский, так что толком посмотреть ничего не успели. Девочка легла на кровать, открыла местный путеводитель и сама не заметила, как уснула. Травин сходил в артельную лавку неподалёку, купил еды, положил на тумбочку и тоже завалился спать.
Советскому служащему полагалось две недели отпуска, за это время Сергей рассчитывал подготовить дом к зиме, сходить на охоту и, может быть, выбраться на несколько дней в Ленинград, Лиза давно просила, да и перебравшиеся туда Кирилл и Маша очень звали. На поездке в Пятигорск настоял Меркулов.
– Съезди, отдохни, – замначальника оперсектора ГПУ был завален делами по самую макушку, но Травина почему-то к себе вызвал, – сейчас к тебе внимание повышенное, а к зиме, глядишь, страсти улягутся, заодно подлечишься, а то вон какой бледный. Да и человек ты теперь холостой, здесь ничего не держит.
Действительно, с Черницкой они разошлись, точнее, она уехала, а его с собой не позвала. Отъезду предшествовал грандиозный скандал в больнице, после которого Черницкая тут же уволилась, собрала вещи и вместе с сыном перебралась в Эстонию, на прощание пообещав писать. Сергей считал, что без Меркулова и его особого отдела тут не обошлось, но мысли свои держал при себе, у каждого своя работа, у кого-то опасная и трудная, а у него лично – восемь часов в день с одним выходным в неделю.
– Почему за месяц?
– Ты как будто вчера родился, – Меркулов посмотрел на Травина таким честным и открытым взглядом, что аж пробрало, – это отпуск две недели, а ты, как пострадавший боец Красной армии, контуженый инвалид и герой фронта, лечиться едешь. Минимум три плюс дорога, в больнице тебе такую схему лечения расписали, за два месяца не управиться. Вот, Лена специально мне передала.
– А Лизку куда дену? Школа у неё.
– С собой вези, нечего девке тут киснуть, она как-никак дочь красного командира, погибшего за революцию, ей тоже отдыхать положено, а там лермонтовские места. Они Лермонтова в каком классе проходят?
– Ты, Александр Игнатьич, не темни, – Сергей слегка сжал кулаки, положил на стол, – я загадок не люблю и ребёнка непонятно в какую аферу не повезу.
– Ладно, – Меркулов нарочито вздохнул, отбил пальцами по столешнице короткую дробь. – Женщину помнишь? Ну которая в тебя три года назад стреляла и почти промахнулась. По глазам вижу, помнишь.
– Было дело, – не стал отпираться молодой человек, – сдал я эту гражданочку в отделение, а что дальше с ней случилось, не знаю, следователь так и не объявился. В милиции сказали, что передали в районное угро. Какая-то сумасшедшая, приняла меня за другого.