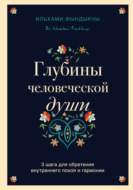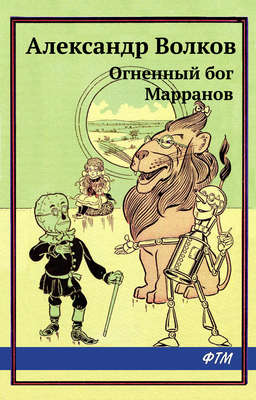Kitobni o'qish: «Однажды в России. Унесенные шквалом 90-х»
Biror narsa noto‘g‘ri ketdi, keyinroq qayta urinib ko‘ring
54 792,31 s`om
Janrlar va teglar
Yosh cheklamasi:
16+Litresda chiqarilgan sana:
23 yanvar 2023Yozilgan sana:
2023Hajm:
491 Sahifa 2 illyustratsiayalarISBN:
978-5-04-180570-8Mualliflik huquqi egasi:
Эксмоseriyasiga kiradi "Остро о важном. Наблюдения современных публицистов"