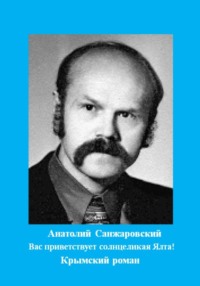Kitobni o'qish: «Вас приветствует солнцеликая Ялта!»
1
Колёку избила жена.
Избила бестактно, грубо, масштабно. Била ж не одна. Била со всей дури напару с новёхонькой сумасшедшей скалкой.
«Боги мои! Я призываю вас в свидетели! Ти, совсем сдурела бабенция! Жила, жила да и подхватись драться. Ну черти её подучили, что ли… Прям шизанелли какая-то… На родного мужика скалку берёзовую задрала! А родилась жа в год овцы… Хэх, овечушка… Забьёт! Последнюю серость из башни вытряхнет эта перьехвостая тупайя. И будешь головкой трясти, как вседеревенский дурасёк Витя Алибо…»
Тоскливая перспектива не согрела Колёку.
Он опало загоревал и неосмотрительно потерял бдительность, отчего скалка, что чаще опускалась на изворотливо подставляемую им ладонь, прочно полыхнула его по спине.
Охнув, Колёка стриганул в распахнутое наразмашку окно и попутно срезал с подоконнища горшок с кактусом.
Горшок кокнулся и веерно брызнул унылыми черепками.
Кактус переломился.
Бегушком отхлынул Колёка на безопасное расстояние.
Храбро оглянулся.
Из окна воинственно помахивала вульгарная скалка.
Из-за скалки хрипело:
– Уди! Уди, живорез! Чтоба не видали тебя мои горьки глазоньки! Двух девок и тебя, кобелищу, не могу я больше окармливать одна! Девки что? У девок должность прохладная. Из миски ожкой! На то они и детьё. Но ты-то, кобелюка! Ты! Твоя должность – класть в миску! А что ты, котяра, положил? Дырку от бублика? А самого только пот и прошибает, как лопаешь чужое. Бабье! Урождённый брать рази может давать?
Колёка виновато насупился:
– Ти, мамэле, гонишь, стал быть?
В ответ из-за скалки боевым ядром просквозил горшок с фиалками.
Фиалки Колёка любил.
«Выбросить фиалки – всё равно что выбросить меня!»
Горшок въехал в тугое тело старушки яблони и осыпался на землю тихим, печальным дождецом мелких осколков.
Это был конец.
Колёка норовисто дёрнул носом.
– Я уйду! – сказал он оскорблённо. – Но считаю своим долгом предупредить. Кое-кто глы-ыбоко заблудится, затей какую непотребь проть меня. И как бы кое-кого не прижгло бежать ворочать…
Колёка с достоинством приложил руку в поклоне к груди – указывал, кого именно не пришлось бы бежать ворочать.
– Три ха-ха! Мели, кот Емеля, твоя неделя!
– Хватай шире. Год! Мой нынче год! Кота!
Колёка гордо выпрямился и пошёл.
Он степенно прошествовал за угол дома. Остановился.
Послушал дверь.
Нет, и за дверью не слышалось никакого движения. Никто не бежал молить его остаться. Ну что ж, побегут! Чудок попозжее туда! Колёка великодушен, может и снизойти, пару минут подождёт. Пока не сварится курья горячка.
Но не ждать же в открытую!
Колёка выставил одну ногу и примёр, держит на весу.
Это на тот боевой погорячливый случай, чтоб не застигли его откровенно ждущим.
Так, в уходящей позе цепко вслушиваясь в дом, он проторчал столбиком на месте и минуту, и две, и три.
Но за дверью шаги не спешили к нему.
Ни одна холера не летела ворочать его.
Оттопыренная нога занемела. Он устал стоять на одной.
«Таковски можно и в сам деле умыться… По телику слыхал… У япошика гусайа1 вон шпацирует за своим благовериком в трёх шагах… Дистанцию держит… A эта… – Он бережно погладил зашибленную челюсть. – Так починить дорогую хлеборезку… Оха-а… Умотай на другой конец света – и ухом не поведёт… У-у!.. Гляну-погляну, распустили мы своих толстопятых гусынь! Демократия…»
Колёка ватно прикрался избоку к окну.
– Слышь… драчунелла, – тоскливо забубнил в оконный простор. – Надоел мне этот весь фиксаж-мираж… Ты побранивай за дело… Не возражаю… А побранив, посля не кори…А ты… Вторые сутки бесконечная побранка! Мне таковецкий бейсбол не нужон. Всё! Ти, лопнул мой терпец! Я обещал – я ухожу. Дело в прынцып уже въехало…
– А чего эт ты докладаешься? Мужик! Мужик прозывается! У тебя хрен ма гордости даже уйти по-мужецки! И кому где ты нужный? Таких… Вашего брата по тринадцати на дюжину кладут, да и то не берут! И куда ты, телёш, побредёшь?.. Разнесчастный гулькяй!2 Тебя ж лень да голод у первого плетня свалят. Мужик! Где мужик? – Она заботливо огляделась вокруг. – Где? Нету мужика. Одно позорище! Уйду!.. Нагнал холоду… А всего-то в игольное ушко ураган дует… Бездольный колоброд! Подожгло уходить в однех носках… Не смеши!
Колёка глянул – действительно, в одних носках.
Из окна вылетели его кривые башмаки.
Колёка галантно им поклонился.
Уж теперь-то он наверняка уйдёт. Есть в чём идти.
Есть и на что идти!
Колёка будто чуял, сдавит его чёрный переплёт. Придётся отстёгиваться от дома.
Это ж в крови у великих!
Вон аксакал Лео Толстой тоже уходил. Хопнул дедюня бабуриков и в божий путь!
Уйдёт и Колёка.
И к уходу загодя скопил, соскрёб по жениным сусекам заначный стольник, влепёхал под стельку на пятке окривевшего башмака.
Он мстительно поклонился скалке в окне, недобитым на подоконнике горшкам с крапивкой, с крестовиком, с огоньком, с геранью, с розой, с женихом, с невестой, с декабристом.
Игристо помахал ручкой и пошёл.
На третьем шагу обернулся и крикнул торжествующе:
– Татьяна! Моё счастье без изъяна! Я ухожу! Хлестаться в десну3 не будем. Некогда! Видишь же! Ухожу!
– Но и ты, дуропегий, видишь, что я не утопаю в слезах. Нужен ты тут, фонарь бубновый, как кенгурихе авоська! Мотай на все четыре ветрушка! Носит же таковских земля… Хвостомер! Доехать до двадцати пяти и ни копья не пригнать в дом! Ни дня в работе! Такого второго дурноеда на всём земном шарушке нету. Артист Хренкин!
Колёка не знал, что б его такое горяченькое отстегнуть в ответ, и, шально гримасничая и дёргая над головой руками, в дурнопенье запрыгал на пальчиках, точно под ним была раскалённая сковорода:
– Иэх да на заре-е ты меня-я-а да не буд-ди-и…
Иэх да на заре-е у тебя-я-а на пупке бигуди-и…
Окно брезгливо захлопнулось.
Экой дурнины и от Вити Алибо не слыхивало!
Закрылось окно – и в Колёке что-то умерло.
Ему стало стыдно не стыдно, а какая-то неясная неловкость придавила за больной выбрык, и первое желание было толкнуться к окну, ласково постучать и в покорливости втиши попросить прощения.
Но он не вернулся, лишь бросил себе: мужчина идёт только вперёд! Стыд не дым, глазами хлопать можно!
И ещё суматошней пожёг беглым шагом дальше, словно за ним летел кто вдогон, а он горел поживей убраться.
2
Желобок худой тропинки выкатил его на большак.
Большак простёгивал всё поле.
Колёка промашисто шёл-бежал и когда оглянулся, из-за державного, тяжёлого жёлтого колыханья поспевающих хлебов увидел лишь макушку своей хаты. Он побрёл медленней, как бы нехотя, не убирая глаз с дома, приседающего, печально уходящего в праздничные хлеба.
И когда совсем не стало видно дома, он остановился очумело.
Уходить? Куда уходить? «Рождённый ползать, куда ты лезешь?» К кому уходить? Где меня кто ждёт? А может, всёжки вернуться?.. Татка человечина. С этой женьшенихой жить можно. Да и куда я, бзикнутый, без неё один? Куда я, Коля – перекати-поле, ни ступи, одна лишь тень рядом… Мда… Кимоно-то херовато… Подохну, как слепой кутёнок под первым же забором. Перекрою сам себе дорогой кислородишко…
Однако!
Вспомнилось, как выпевала Татонька.
«Да это ж убойная тягомотина! Ти, сплошные враки!.. Что добежал до двадцати пяти – это так. Правдуня твоя. Но что ни копья и разу не занашивал домой – пёсий натуральный брёх. Занашивал! По триста! Копеюх… Ну… Тут я не отступаю от её единицы счёта. Говорила б она про рублики, и я б сказал, что припёр однова целых три рубляша! Так зато каковские это рублищи! Оторванные от великого искусства!.. Не за погрузку свёклы. Не за починку коровника. Не за пахоту. А за кино! И за какое!..»
Колёка умедлил шаг, мечтательно и грустно повернул лицо в сторону, где когда-то снимали не то «Войну и мир», не то ещё какой фильм. Точно он уже не помнил.
Бородинское сражение…
Приехали набирать на массовку. Никого из села не кликнули. Никогошеньки! А Колёку персонально позвали. Одного со всей Сухой Потудани! Правда, прочих председатель не пустил. Уборка!
– Я, – сказал председатель, – могу вам только одного Коляку Самоделова удружить без боя. Воло́ча4 ещё тот! Он у нас вольный казак. Ни к какому деревенскому делу его не пригнёшь. Пускай хоть у вас повоюет. Можь, убьют по нечайке. Так потеря невелика будет для дорогого Отечества.
Это он так. Для разгонки мысли. Для юмора.
Ну, юмор юмором, а Колёка достойно представил свою Сухую Потудань на мировом экране.
Надели на него всё военное той поры кутузовской. В боевое действие пихать раздумали, велели глубоко сосредоточиться на роли убитого народного героя.
Лёг Колёка вниз лицом в только что из-под иголочки обмундировании, колодой провалялся на земле с полдня. Всё сымали!
В Потудани фильм шёл один день на двух сеансах. Колёка загодя взял три билета. Один на детский да два на взрослый. И на Татку.
Задумка была магистральная. На детском Колёка один внимательно просмотрит. А уж на взрослом смотрище будет Колёка Татке консультантом, чтоб та не зевнула дорогую сцену с ним. Не каждый день потуданские снимаются в кино. И не кто-то другой, а именно сам Колёка. Один изо всей Потудани! Подарок жёнке будет сладкий!
Наверняка дело выбежит на большой. Торжество какое! Не грех же ведь по такому случаю накрыть целую поляну да пофестивалить! И для начала Колёка ещё до кино слетал в мавзолей, в винную лавку, за фуфыриком.
Но до поляны радость не добежала.
На детском сеансе Колёка не увидел себя.
И не стал звать Татку на взрослый. «Посмотрю ещё сам повнимательней. Может, я сам зевнул от перенапряга?»
И когда после картины народ повалил на выход, Колёка зверино рванул в кинобудку.
Ещё с порожка заорал на механика:
– Ты, кирюхин, знал, что я буду в этой картине! Ты меня и отчекрыжил! – и тряхнул тщедушика механика за грудки.
– Ты меня за вымя не хватай… И кончай парить бабку в красных кедах! Ничего я не вырезал!
– Тогда почему меня нетушко? Один же сапог уцелел! Может, я и во второй раз зевнул? Давай крути мне одному киноху. Вот мой билетко!
– Хоть у тебя билет в полном ажуре-абажуре, не надорван, но одному целую картину я крутить не разбегусь.
– Будешь! Знаю я тебя… Что тебе в уши надышат, ты то и сделаешь…
– И про что твоё дыхание?
– Тут к дыханию набавушка пристёгнута… Вот тебе, пиянист, матьстимул! – и Колёка пристукнул дном пузыря по столу. – Крути те места, где дорогие товарищи убитые лежат!
– За такой харч, – засиял механик, – будем крутить, пока всех мёртвых не оживим!
Часа три они крутили ленты. Но кроме сапога ничего от Колёки не отыскивалось.
Единолично опорожнив панфурик, механик сказал:
– Может, к твоему сапогу пририсуем твоё плевало? – и потрепал Колёку за щеку.
– А сможешь?
– В том-то и помидор, что не смогу. Тут тебе не «Мосфильм». И даже не «Баррандов»…
Колёка не верил, что от него уцелел в фильме лишь сапог. «Это киномеханик схимичил! Это он аннулировал меня как класс!»
И тайком ото всех знакомых Колёка на велосипеде излетал все соседние сёла, где на проверку смотрел свой фильм. Но себя так и не увидел.
Правда, Татке он однажды раз прихвалился неуверенно, что он есть в картине. Да не весь. Один сапог уцелел. Но – уцелел!
Доказать Колёка не мог, что это именно его сапог на его родной ноге, и пришлось Татке принять этот сапог на веру.
Под момент она покалывала его шпилечкой:
– Ну, артист, наголливудил! Скоро засядешь за мемуары «И Моя Жизнь в искуйсстве»?
– Ти, бобырь я не тщеславный. Однако скажу. Я один-разъединый со всего села казаковал на съёмке! Пускай кто ещё из наших вякнет, что был! Хре-енушки!.. Полежал, даже задал храпунца на родимой земельке. А мне ещё трояшкой поклонились. Задуриком не отва-а-алят!..
Колёке не понравились, как коту мыло, и куражливые крики про дармоеда.
«Ну и что, что не работаю? Про это ж все знают! Так чего визжать на всю Галактику? Можь, у меня аллергия на деревенскую арбайтен унд копайтен? А ты сразу гулькяй, гулькяй!
А промежду прочим, Боженька не фраер. Боженька всё видел!
Не сидел я век сиднем. Я пробовал честно писать. Всё-таки искусство звало…»
Колёка уважительно погладил нагрудный кармашек рубашки. В кармашке под застёгнутой пуговкой лежала бомбуля для дорогуши Таточки, вчетверо сложенная эта газетная вырезка.
Ученые назвали причину женской неверности
Американские ученые выяснили, что женщины, в крови которых содержится большое количество гормона эстрадиола, склонны к интимным отношениям с несколькими партнерами одновременно. Таким образом, в женской полигамности виноваты гормоны, утверждают специалисты.
Эксперимент, показавший неожиданные результаты, был проведён среди нескольких десятков представительниц прекрасного пола в возрасте от 17 до 30 лет. Все они принимают противозачаточные таблетки. Выяснилось, что у 78 участниц эксперимента завышен уровень гормона в крови, который отвечает за половую активность.
Таким образом, большинство женщин до 30 лет являются ветреными и не склонны к серьёзным отношениям, подытожила доктор Кристина Дуранте.
Конечно, злорадно думает Колёка, неверных женщин нет. Это выдумки мужичья. Гоняют тут мужики порожняк. Да и фамилия у лечилки разве ничего не говорит сама за себя?
Но наша печалька не об этой Дуранте. У нас своя Дурантеюшка, ненаглядушка Татуленька. Как бы прознать, не слишком ли много в ней этой проклятухи эстрадиола?
Ну как выяснишь, ветреная ли Татка? Или, может, она на весь ураганище уже давно тянет? Куда б его постучаться? Кто подможет мне прояснить милую картинушку?
Стыд подпекает Колёку. Он уже выяснял одно дельце и что из того выяснения слепилось?
«Я никак не расчухаю, почему журнал про все болячки навеличивают «Здоровьем». Мы прижили уже двух девок, когда я настрогал в это самое «Здоровье». Так, для разминки руки и ума… С грамотёшкой у меня лёгкий кризис. Накарябал одну-то фразоньку, а букв штук пять, чую, не хватило.
Сочиняю я экономно. Буквы сами из слов выпрыгивают. Чаще е убегает от меня. Бровью водил, локтем писал. Откуда что бралось!
У моей жаны при первом, извиняюсь, интиме не было кровей ни голубых ни протчих иных, а она вусмерть клилась-божилась – честнейшая двушка. Можт ли подобно случиться?
Знамо, дым без огня не живёт.
Конечно, ты не какая там эстафетная палочка. А всё ж, что ты девушка, я налегке сомневался. И всё одно я пощадил тебя. Не выдал фамилию, не сунул адрес.
Да они там, похоже, спелись с тобою. Только как? Я ж им, кискадёрам, повторяю, не давал ни адреса, ни фамилии. Иначе разве б ответили в журнале так (без конкретного адресата, но – мне!), так по-научному ясно, что я со зла всё буковку в буковку упомнил.
«Дефлорация (лишение девственности) обычно сопровождается небольшим кровотечением. Но его может не быть, если плева отличается хорошей эластичностью. В таких случаях она не разрывается, а растягивается, потому-то крови и не будет. Разрыв девственной плевы не произойдёт и при небольших размерах полового органа мужчины, неполной его эрекции».
Убили!
У тебя всё на отличку! Всё классман! А у меня и размеры уже скромней клопиных, и полноты уже невдочёт…
В кино уцелел хоть один мой сапог.
А охотку к литературе на первом же шагу подсекли и вовсе смяли. Я перестал писать. «Не расцвел и отцвёл…»
Может, моя шевелилочка, и посейчас, после пяти замужних лет, при двух в конкретной ясной наличности девках, ты всё ещё нерасколупанная амазоночка?..»
Колёка дурашливо раскинул на полземли свои грабельки, крутнулся назад, к дому, и ядовито пропел:
– Ax, какая я была
В девках интересная.
В девках девку родила.
Замуж вышла честная!
3
Большак лениво переливался, перепрыгивал через железную дорогу.
Но Колёка зацепился за зебристый шлагбаум, остановился и не пошёл дальше.
Умаянно присел.
Дорога и жара распластали его по бугру.
Он тотчас уснул, упал и пропал, едва воткнул голову в чахлую тенёшку от жиденького одинокого кустарика.
И видит Колёка сон.
Обиженный на весь мир из-за Татки, побежкой спускается он с бугра боком и добросовестно, бескомпромиссно возлагает свою бедну головушку на рельсы. Под скорый.
Вот-вот просквозит на юг.
Ну, лежит Колёка на остром горячем каменешнике. Терпеливо ждёт, бдительно ждёт.
А скорый, как велось, запаздывал.
Лежал, лежал Колёка в ожидации. Сморился и уснул. Во сне уснул.
И в этом, уже втором, сне видит, как налетает на него скорый.
Дрогнул Колёка. Схватился на ноги да бечь.
Но что-то раздумал.
Стал меж белыми нитками рельсов быком. Кулачишки наизготовку. А ну-к тронь!
Тукнулся электровоз в Колёкин лобешник – с копытов вон. Погремел в яр, одни колеса бело замелькали.
Да катился только сам Колёка. Во сне.
Проснулся уже в канаве.
У самых ног крутобокого бугра.
Пролупил глядела – ан мчит скорый прямушкой на Колёку!
Божьим матом вымахнул Колёка назад, на серёдку бугра. Отпыхивается и замечает: упрело сбрасывает скорый обороты, примораживает ход.
А там и вовсе присох персонально у Колёки.
– Чего стали? – залежалым голосом ликующе спросил он молоденькую веселуху, выдернулась в распахнутую её вагонную дверь.
– Тебя, сизарёк, забыли взять!
– Так эт дельце исправимо! – Колёка суетливо подбежал к проводнице. – Вот везетёха!
– Чего, беглуша, разлетелся, как голодный кот на мышь?.. Ишь, бах – и в ямку! Билетишко у тя есть?
– Ти! Оно и у тебя нету. Однако ты катаешься!
– Я при исполнении! – поощряюще улыбнулась жеманница.
– Вдвоёмко же лучше исполним! – с лёту бахнул он.
– Я как-то вся в плотном сомнении…
– А ты не сомневайся. Как я!
На уровне его лица были её ножки, сытенькие, ласковые, озорные, и Колёка приварился к ним тупым, ошарашенным взглядом. Трудно заворочалась в нём где-то слышанная генерал мысля: «Какое сходство между телевышкой и женской ножкой? Чем выше, тем больше дух захватывает»…
Заговаривая с молодкой с какой, он редко когда подымал глаза выше её талии. Вроде стеснялся, кажется. Интересы его тут высоко не залетали.
«Муравьихина талийка… Роско-ошная барынька-картинка… Ти… Как же взнуздать эту капризулю блошку? Невдахе и в яйке кость попадается… И чего выёгиваться, в Дарданеллы твою мать? – опало думает он, вмельк глянув вперёд вдоль поезда. Дали зелёный. – Как же укоськать эту мормышку?»
Просительно забормотал:
– Дай слово лаптю… Я не люблю размахивать кулаком под одеялом! Я напрямки… Слышь, королевишна, возьми божий дар, – тукает себя в грудки, – на соцсохранность… Не пожалеешь… У тебя в рубке я много места не займу… Да и богацко… вызолочу… Век будешь довольна!
Она чисто рассмеялась.
– Честное пионерское?
– Честное пионерское в квадрате!
– Живописно треплешься, королевич. Намолол на муку да на крупу… Ну! Наша печь в дровах не разбирается. Сигай!
Она посторонилась. Вжалась в глубь тамбура.
Уже на ходу Колёка поймал поручни и, мурлыча:
– Фонтаны били голубые,
И розы красные цвели-и…
эффектно подтянулся и как бы нехотя, с ленцой, на красоту занёс прямые ноги на железный лист, что прикрывал ступеньки.
Колёке нравилось всё. И то, что поезд бежал в Крым. И то, что это из-за Татки очутился он в этом развесёлом вагоне. И то, что никакая теперь душа его не отыщет. И то, что проводница оказалась студенточкой и счастливо заглядывала ему в рот.
«Вдарю слегка по югам, отдохну, – раскинул в мыслях умком. – А то разь это жизнелла? Как у седьмой жены в гареме! До двадцати пяти докувыркался, а на юге и разу не попасся наш котофейка!.. Но вот случай подкинуло… Что Боженька не делай, всё на лучшее всегда выведет. Назло тебе, Татулечкя, съезжу хоть одним глазком гляну на морцо, хоть разок скупнусь и назадушки в родной вигвам! Я ж, блинский блин, совсем не гуливал на югах! Не боись, не застряну там навечно. Всего-то разушко окунусь и досвидос, Чёрненькое! Выполню программу-минимум да и бежмя к тебе под легендарный под сладкий бочок!.. Ты к той поре точно уж успокоишься…»
За окном торопливо лились назад под солнцем усталые державные поля в жёлтом. Бежали к дому.
Раскатился Колёка в болтовне, в подробностях расписал свой сон на бугре.
– Понимаешь, боднул я целый составчик, он и кувырк. Во-она какой у меня лобешник!.. Ти… Из-за такого дерьмонёнка поезд народу сгиб… Эхэ-хэх… Как говаривала моя бабка, жизнь прожить не лукошко сшить. То ли ещё будет…
– А ничегогогошеньки не будет, – томно потянулась студенточка и смешливо тыкнула бледным пальчиком Колёке в нос, намахнула на Колёку свою фуражку. Железнодорожная фуражка ему очень шла. В ней он адски нравился студенточке. – Бывает, – всё задоря его, игриво тянет она, – бывает, и лягушка чихает, и платочком носик вытирает…
В проводниковом купе домашне уютно, хорошо.
Дрожь встряхивает Колёку.
Колёка пихает руки глубоко в карманы. Боится, что они без его ведома, безо времени цапнут студенточку за сановитые коленушки – так безотчётно-радостно и далеко выскочили любопытные из-под края отчаянно куцей юбчонки!
И в жаре бормочет про себя Колёка:
«Повар пеночку слизал, а на кисаньку сказал…» Ух этот по-оварюн!.. Ёкэлэмэнэ!.. Вылитый хулиганишвили!..»