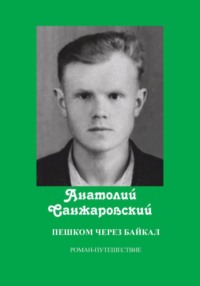Kitobni o'qish: «Пешком через Байкал»
Не приходом люди богатеют, а расходом.
В благополучии человек сам себя забывает.
Распутья бояться, так и в путь не ходить.
Русские пословицы

1
Даром и чирей не сядет, а всё начесавши.
Нежданный гость лучше жданных двух.
В редакции мне сказали:
– Послушайте! А чего б да вам не прогуляться по Байкалу?
– На предмет?
– Поразомнётесь… А заодно полюбуетесь красотами. Загорите…
– В марте на Байкале?
– В марте на Байкале. Между прочим, на Байкале больше солнца, чем в Кисловодске, в Ницце.
Я полез в энциклопедию.
"По продолжительности солнечного сияния и прозрачности воздуха Иркутск занимает одно из первых мест в стране".
Правда, Иркутск ещё не сам Байкал. Но всё ж под боком.
А вот уже самое что надо:
"По солнечным дням, яркости и силе сияния солнца Прибайкалье – Крым, Италия…"
Каюсь, Сибирь почему-то виделась мне всегда ледяным домом. А тут… Вот уж не думал.
Разумеется, лично я ничего не имею против дармовой Италии, Крыма и загара, вместе взятых. Только чем ещё помимо загара должен я порадовать редакцию?
Заданий набежало столько, что мысль о халявном загаре в момент поблёкла, показалась мне вконец неуместной, даже стыдной.
А вечером я был уже в аэропорту.
До посадки оставались какие-то пустые минуты.
Припал я к почтовой стойке с пуком телеграфных бланков.
«Самая красивая королева квартиры тринадцать! Самая лучшая жена на планете Земля!
Прошло полных четыре тыщи двести одиннадцать секунд, как распростились мы на Павелецком в электричке, ты ещё, провожалочка, может, не добралась до дома, а я уже пишу. Вот где глупую моду взял. Как только отъехал за семафор – сразу доставать тебя каждодневными письмами.
А с другой стороны…
Ну, кому пожалуюсь, когда у меня беда?
Выхожу в Домодедове из электрички…
Понимаешь, какое безобразие? Почетного караула нет, ковровой столбовой дороженьки нет, оркестра нет, никто ничего не играет, никто не мотает мне флажками…
С гнева тёмна вода в глазах разлилась.
Я б такого вовек не пережил, если б не орешки, что ты тайком насыпала в карманы. Орешки я подмёл ещё в электричке. Нащёлкался – дышать нечем!
Ну-с, миланя, попробуй теперь скажи, что я толст. Я скажу, что эта уродливая полнота – верный портрет твоей доброты.
Кто спорит… Талия у мужа – хорошо, а доброта жены всё ж лучше!
Объявляют посадку. Надо бежать.
Не балуйся. Я тоже не буду. Совсем не балуйся!
Имею же я право на дорожку хоть один совет дать?
Мысленно с тобой, возможно, самый уважаемый мужчина квартиры тринадцать».
На конверте с танком на постаменте черкнул обратный адрес: небо, до востребования, я.
Чуть подумал, приписал под танком:
”Не вскрывать! При вскрытии конверта этот танк стриляить!”
Напрасно летел я на весь дух к выходу.
Не добежал ещё – получите первый аэрофлотовский гостинчик. Рейс передвинули на час!
Нас ещё дважды провожали, дважды билеты проверяли, дважды уже толклись мы в зяблой галерее на подступах к самолёту, были уже надёжно проверены милицией и автоматом, но нас вежливо возвращали.
В толпе зароптали.
– Не разбери-поймёшь…
– Мы уже и не звеним. А нас всё ни одна холера не отправляет…
– А ну ещё Омск тормозни? Ба!.. Когда ж мы обозначимся в Иркутске?
Ближе к полуночи рейс и вовсе перекинули на утро. Гололёдка!
Ладно, утро вечера смирнее…
Можно было бы, глядя на других, вернуться домой отоспаться.
Я не вернулся.
Вовсе без нужды. А ну ещё зевнёшь?
До срока освободился я от лишнего груза жениных бутербродов, прикипел плечом к стенке, с верха которой ясно говорило, и, стоя, не сходя с места, до первого света липко караулил объявления. Всё боялся, уйдет самолет без меня, как есть уйдет!
Утром, ни свет ни тьма, наконец-то дали посадку.
"Маяточка моя!
Всего лишь ночь, как расстались, а кажется, вечность проводил. Мне не то что скучно, мне плохо без тебя, так плохо, что очень хочется тебя увидеть именно сейчас; не может быть того, что не увижу; одна и радость ты; во все глаза смотрю в круглое свое оконце, не прозевать бы, как ты подойдешь к трапу, я выскочу подать тебе обе руки…
Но вот трап уже забирают, а тебя нет и нет…
Гремучий наш гробина ненадёжно как-то подымается. Не зацепился бы за Урал возле Гая твоего.
Вроде бы не должен.
Когда я шёл на посадку, в галерее лениво пересекал мне дорогу рыжий кот. Я наддал, обогнул кота, так что нам с бедой делить нечего.
Дают воду, усыпляют бдительность.
Выпил, а ни в глазу. Голод не тётка, жмёт. Давай!
Обнесли, попотчевали завтраком. Кормёжечка, доложу, на евроуровне.
Подмёл, видит Бог, всё до крошки.
Для дома, для семьи еле оторвал от себя три пакетика с солью, с горчицей, с перцем. А тебе персонально припрятал пока от глаз своих красную рыбку. Чтоб был стимул ждать ”.
"Наши в Омске. Срочно разыскиваю золотой эшелон, который кто-то у кого-то как-то увёл ещё в гражданскую. Про это даже по телевизору показывали. На поиски дали всего сорок минут (промежуточная посадка). Найду, пригоню тебе к третьей годовщине нашего кольцевания. Пригоню обязательно в-в-в-весь! состав! УЖЕ! ВИЖУ!! ЕГО!!! НА!!!! ГОРИЗОНТЕ!!!!!”
С благополучием прииркутились мы в лиловое большеводье сумерек.
Заполняю гостиничную анкету.
Что-то мягко толкнуло в грудь.
Батеньки! Да где-то в тутошних дебрях затерялись следы старинного приятеля!..
Николя́!.. Каменский!..
Отшумела, отыграла молодая пора…
Вместе копили ума в бурсе, как окрестил он университет в Ростове-на-кону1. Вместе работали. Вместе спали на одной койке.
Крутила его потом журналистская судьбина из края в край по Россиюшке, крутила…
А-а, судьба… Сам крутился, как чёрт на бересте!
Не в давних годах последняя была вестка вот отсюда. Из Иркутска!
Пихнул я анкету в карман, пожёг через улицу к телефонной будке.
Раскопал по ноль девять. Звоню.
Узнал меня. Сразу вопрос:
– Откуда, асмодей? Из столицы алёкаешь?
– Вообще-то, насколько я знаю, из Иркутска.
Он ошарашен.
– Сто-ли-ча-аанин!.. Ты пошто сюда?!
– А об ручку да "в охапочку поздороваться" с тобой…
– Ты где?
– В "Ангаре". Заполнил анкету, ещё не отдавал.
– И не отдавай, плутоня! Прихромаю сейчас со своей клохтухой Петровной. Тут каких три квартальчика.
2
Что ветер подхватил, пиши пропало.
Чужую рожь веять – глаза порошить.
Коренное мне задание – репортаж про выходной прогулочный переход иркутян на лыжах через Байкал.
Переход завтра, в субботу, в крайний день недели. Помнят, нет легче дня против субботы.
Парни, девчата уже сегодня вечером подадутся наушкинским поездом в начальный пункт Танхой.
Раздосадованный, вконец разобиженный на самого себя вернулся я из штаба перехода.
– Ты чего, чудечко на синем блюдечке, отквасил губы? – спросил Николай.
– А! Швах мои делишки… Послушал людей… Не топтать байкальские мне вёрсты.
Он как-то разом притемнился в лице:
– Что так? Чем ты хуже других? Или ты у господа баню сжёг?
– Не падок на пожары.
– Тем более. Случаем прорваться в нашу сторону да не нарисоваться на Байкале! Это, друже, всё едино, что впервой приехавшему в столицу не пойти на Красную площадь. Кто тебя не пускает?
– Я.
– Е-е-ень!.. Опять вечорошние песни!
С минуту Николай смотрит быком.
Глубоко, поди, до дна легких вдохнул, гаркнул лихоматом:
– Микки!
Из коридора влетели, тыркаясь друг в дружку, здоровенный котина и вдвое мельче против него карманная жиденькая псинка на недовывернутых спичечно-тонких ножках колёсиками.
И велит он собачонке:
– Микки! Посмотри, пожалуйста, вот на этого бабая, – пальцем на меня. – И тут же доложи всё, что ты про него думаешь.
Сучонка задрала худую мордуленцию, нагло вылупилась на меня. Потом с ленивой брезгливостью тявкнула и потешно заперебирала кривыми палочками ног, степенно удаляясь из комнаты.
– Беспутенький, наивняк… Даже Микки набрыдли твои байки про неудобно. Докуда им кланяться? Неудобно в почтовом ящике спать. Ноги высовываются и дует! А всё прочее… Придись до любого… Сколько положено труда… Ехал писать про переход и не быть в переходе? Анекдот!
– Анекдот, если пойду! Это не прихоть моего каприза. Поверь… Ну как не понять? Все на лыжах, один я на своих рессорах… Разве я виноват, что рос под Батумом? Разве виноват, что видел лыжи лишь в кино? Березовый, никудышный я лыжник… И для смеха лыж даже в руках не держал! Эсколь народищу! Тяни один я всех назад?.. О-очень здорово! И потом, пеше не сунешься. Совесть не пустит… Надо бежать! С моей аварийной коленкой?! А мне уже и не двадцать… Давненько выщелкнулся из молодых. Большие уже мои года. Два кидай по двадцать! Да с гачком!.. И за раз сорок пять кэмэ по льду! Да куда-а мне лезть?!
– Не пойму… Или ты умом граблен? Ты подумал, как сядешь писать?
– Завтра к четырем – к тем порам уже перейдут – отправятся в Листвянку встречать. На автобусах. Уже договорился, на одном завернут за мной. Обратного пути вполне хватит, потолкую с добрым десятком. Неправда, наскребу живых впечатлений.
– Эдаким макаром мылишься сляпать репортаж? Не видя? Не участвуя сам в деле? Какого ж огня было переться за пять тыщ вёрст?
Конечно, он прав, подчистую прав.
Брал я командировку… Мне даже мысль не пала, что я и секунду не стоял на лыжах.
Пускаться ж теперь пешком… Затея эта повязана риском, в тягость не мне одному. Я не могу, чтоб я кому-то мешал, чтоб кто- то тревожился за меня.
Отказаться, отказаться бы от командировки! Да поди откажись… Хватился монах, как полно в штанах.
Посветлел Николай лицом, заговорил уговорчиво:
– Кончай эти алалы!.. Да ты, лихобойник, или уже не мужик? А я ж прекрасно помню твою сольную легендарную пробежечку Сапожок – Нижняя Ищередь. Конечно, это не Москва- Владивосток… Тем не менее… Прилетел в Сапожок. Распутица. Нижняя пожалела даже подводу послать. Что делать? Возвращаться из командировки с пустом? Тряхнула нуждица, ты и свистани в гордом одиночестве на своём одиннадцатом номерке… По водянистому мартовскому снегу, по слякоти. Полмарафона небрежненько так дал по пересечённой местности. Да-а. Нашего братца журналюгу ножки кормят… Что тогда двадцать два, что сейчас сорок пять. Какая тебе, скоропеший, разница?
– Большая. То было шестнадцать лет назад.
– И что, ты хочешь сказать, что за эти годы твоя пороховница опустела и в ней мыши вьют гнезда? Брось! Да потешь ты, отдёрни охотку, пробежись за милую малину, глянь, что же ты такое теперь? Посмотри, чего же ещё сто́ишь?
– Не думаю, что самое глубокое озеро лучшее место для смотрин собственной персоны.
– А ты возьми и подумай. Сибиряк говорит, истинную цену человеку назовёт один батюшка Байкал… Решайся! Главное ввязаться в драку…
– … а там кто-нибудь и даст в ухо?
– Иначе это не драка.
Препирательства надоели и мне, и ему.
Он властно взял меня за руку, ввёл в ванную, пустил горячую воду.
– Дискуссия окончена. Попарься на дорожку. Полезно.
Делать нечего. Гость невольный человек, что дают, то и жуй.
Под момент, когда я выбанился, в углу на полном снеди рюкзаке уже лежало новое мне обмундирование: Николаева штормовка, женин свитер, белые шерстяные дочкины носки и прочее, и прочее.
Весь дом собирал меня в дорогу, собирал с каким то первобытным неистовством.
"Боже! Неужели я им так осточертел?"
– И тебе всей этой амуниции не жалко? – усмехаюсь Николаю. – От меня можно ожидать чего угодно. Я могу, например, запросто затонуть и всё это поневоле прихвачу с собой туда.
– Не-е, голуба, туда пути заказаны. После баньки ты полегчал. Теперь саженный ледок наверняка не распахнёт тебе врата рая. Как видишь, вероятность разлуки с нашим старым рюкзаком составляет ноль целых хренок десятых.
Не силой ли усадили за стол.
Я что-то без охоты жевал, а больше всё отнекивался, вовсе неломливо твердил, что не хочется.
"Видно, это надёжный цивильный способ избавиться от нежданного гостя. Надоел – выпихни на Байкал просвежиться. И с концом! Как же, бегу и спотыкаюсь! Мне б только за дверь. Раскладушка в гостиничном коридоре сыщется!"
Ни в кои веки не провожал Николай и до порога, а тут прилип, как мокрый листик. Вышагивает и вышагивает рядком под ногу.
Заворачиваем за угол.
Паями, порывами, припадал боковой ветер; зловеще мрачнело низкое тучистое небо.
– Гостя, – подкалываю, – провожают в двух случаях. Чтоб не упал на лестнице иль чтоб не скоммуниздил чего. С какой радости провожаешь дальше?
Молчит.
Одни глаза посмеиваются.
На остановке вслед за мной вжался плечом в автобусную давку, битый час торчал на вокзале (я всё искал, напрасно искал среди походников хоть одного такого ж безлошадно-го, то есть без лыж, как и я), с подозрительным рвением проводил до вагона.
Я всё надеялся на авось. Авось, думал, туристские власти заартачатся, явят принципиальность и в самый последний момент что-нибудь да выкинут вкусненькое. Из запретительной серии. И я – не еду. Но не выкинули. Это уж совсем напрасно!
Вот когда кинулся я сучить петлю.
Поднялся в тамбур. Походя рванул дверь в соседний вагон. На ключе!
– Первая дверь нерабочая, – заворчала с платформы проводница. – Не выворачивайте почём зря.
Не бегом ли сунулся в другой конец – перекрыто и там.
Было отчего пасть в отчаяние…
Поплёлся назад в тамбур. Николай – привёл же леший как на вред! – у самой у подножки. Вежливо интересуется:
– А чего это ты как с креста снятый?
– Топал бы, Хрен Константиныч, до хаты…
Лыбится, а сам ни с места.
"Или он догадывается?"
Тут вагон дёрнуло.
Николай сорвался следом, растаращил руки.
– Легкого рюкзака!
В ответ я круто тряхнул кулаком и побрёл искать пустое место, да завяз у первого же окна. Как стал, так и простоял то ли пять, то ли все с десяток остановок, наверняка простоял бы, злой, распечённый Николкиной плутней, и до самого до Танхоя, если бы…
Поезд уже огибал Байкал.
За окном, на воле, жила ночь, когда запнулись мы у какого-то столба в поле. Ни огней, ни людей.
И вдруг где-то в хвосте поезда задавленно полоснула гармошка- резуха. Гармошка шла: звуки накатывали чётче, резвей, яростней.
Парубки и девки, будто похвалялись друг перед дружкой, ядрёно, вперебой ввинчивали в темнищу тараторочки:
– Не поеду в Баргузин,
А поеду дальше.
Я того буду любить,
С кем гуляла раньше.
– Шила милому кисет,
Вышла рукавичка.
Меня милый похвалил —
Какая мастеричка!
– Через крышу дружка вижу,
По чему я узнаю?
По вышитой рубашке,
По румяному лицу.
– Напишу письмо слезами,
Запечатаю тоской.
Я пошлю по телеграфу,
Пусть читает милый мой.
– Мама, мама, полечи,
Меня изурочили.
Приходили два солдата,
Голову морочили.
– Я сидела на окошке,
Три я думки думала:
То ли сеять, то ли жать,
То ли замуж убежать.
– Миленький, удаленький,
Пошто не помер маленький?
Я бы не родилася,
В тебя бы не влюбилася.
– На углу висит пальто,
Меня не сватает никто.
Пойду выйду закричу:
”Караул! Замуж хочу!”
– Мой миленок смековат,
Смековатей я его:
Он мою подружку любит,
Я – товарища его.
– Моя милка умерла
Да на столах лежала.
Я хотел её нести —
Она убежала.
– "Ангара" идёт по морю,
Окна голубеются.
Ты скажи, матросик, правду,
Можно ли надеяться?
Стоял поезд дольше против обычного, да и стронулся он как-то вяло, вовсе без охоты. Медленно поплыл состав. Весело вышагивали рядом с тараторочками на устах молодые.
Похоже было, не спешил уходить от них поезд; и машинистам, и проводникам, и налипнувшим к окнам пассажирам – всем вкрай как хотелось, нетерпёж подпёк! – дослушать непременно про всё, про что пелось…
И под счастливые голоса ночи, и под ленивый колёсный стукоток всё во мне полегоньку смирилось, успокоилось… прилегла маятная душа…