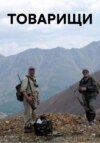Kitobni o'qish: «КОГДА РЕКИ ПОТЕКУТ ВСПЯТЬ»
1.
Катер ткнулся в мягкий грунт левого берега. Матросы спустили узкий деревянный трап и три человека спустились на берег. Одеты они были в короткие, старого образца телогрейки, подпоясанные широкими офицерскими ремнями. За спиной горбатились рюкзаки. Но на этом их сходство кончалось. Первый был обут в кирзовые сапоги, второй – в резиновые. На ногах третьего были американские тупорылые ботинки. Голову первого покрывала шляпа из твердого фетра, второй носил кепку, старую, мятую, с обтрепанным козырьком, третий красовался в берете. В руках у первого был геологический молоток на длинной ручке и с острым клювом, за плечом висело двухствольное ружье. Второй держал лопату, а за поясом у него был заткнут короткий плотницкий топор. Через плечо у третьего висел фотоаппарат.

Высадка
Сойдя на берег, они, все трое, повернулись к реке и смотрели, как матрос подтянул на борт трап, а катер взбурлил за кормой воду и, пятясь, отвалил от берега. Матрос прощально поднял руку. Из гудка также вырвался прощальный хрип. Первый и третий приветственно подняли руки, прощаясь с катером. Он увозил последнюю память о внешнем мире. Сейчас они войдут в тайгу и никто не будет знать: где они… что они… И они тоже не будут знать, что же там, за чертой леса?
Второй вздохнул. Видимо память отходящего катера вызывала у него невеселые воспоминания. Третий спохватился, что надо запечатлеть торжественно-исторический момент, открыл фотоаппарат, отбежал в сторону, чтобы на переднем плане кадра оказались две фигуры, а на заднем – уходящий катер, и защелкал…

Комарьё
Но, ни попрощаться, ни сфотографироваться как следует не дала мошка. Едва путники сошли на берег, как тучи гнуса набросились на них, словно изголодавшаяся орава, давно поджидавшая их появление. Первый достал накомарник. Второй и третий последовали его примеру. Накомарники были типа высокого конусообразного капюшона, только впереди, перед глазами, носом и ртом, было вырезано квадратное оконце, затянутое плотной сеткой из черного конского волоса. И все трое сразу стали неотличимы друг от друга, неотличимыми как лесные братья.
Они зашли в тайгу и та сомкнулась за ними, как вода за ныряльщиками. Сначала лес был негустой, почва ровная и они продвигались довольно быстро. Но скоро тайга пошла плотнее – впереди, сзади и над головой, повсюду тайга, кольцом. Мокрая тайга. И никаких ориентиров. В общем-то, они знали, что надо идти на запад, все на запад и, если не сбиться, то они выйдут к заимке Пимушиных. Но не сбиться было трудно.
Довольно скоро дорогу им преградил завал. Бурелом, видимо, был свежий, результат недавней грозы, и тянулся непрерывной полосой. Они попробовали его обойти, но не смогли. В пределах ветроповала деревья лежали как попало: одно на другом, поперек, наискось. Падающее дерево сбивало второе, второе третье и так могло продолжаться километры. Торчали вздернутые кверху разлапистые корневища. Густая крона закрывала, маскировала пустоты между деревьями и, преодолевая эти таежные «баррикады», надо было все время пристально смотреть, чтобы не провалиться между стволов и не поломать ноги. А стволы мокрые. Одежда мокрая. Сверху дождь. Внизу болото. И с деревьев, между которыми приходиться продираться, каскады воды. Пришлось преодолевать завал, но лезть на двух-трех метровой высоте, по неровным деревьям, по мокрой скользкой коре, нагруженные рюкзаками со снаряжением и продовольствием, ружьями, лопатами, лотками было делом и нелегким и рискованным. Дерево лежало на дереве, листва и хвоя закрывали провалы, пихта, ель, кедр, береза – все перемешалось…
Когда они, наконец, ступили на твердую землю, оказалось, что под ногами болото, что уже темнеет и надо становиться на ночлег. Каждые десять-пятнадцать шагов Анин останавливался и сверялся с компасом. Тайга, завалы, мочажины, гарь ели и молодого пихтача заставляли отклоняться и в маршрут постоянно приходилось вносить коррективы. Тайга темная, глухая. «Черневая»! Уж если здесь потеряешься, ни с какого самолета не разыщут. А день кончается. А надо идти. Стиснув зубы и подтянув пояс. Идти. Вроде и немного прошли, а брюки уже висят клочьями, одежда мокрая, сухая только прикрытая рюкзаком спина. Но Анин продолжает идти до тех пор, пока деревья становятся почти неразличимыми. Только тогда, видя, что до ручья им сегодня все-таки не дойти, он начинает подыскивать место для ночлега.
Это место должно быть сухим и неподалеку должна быть вода. И то и другое на заболоченной местности – проблема. На болоте, по которому они идут, нельзя лечь и напиться из него тоже нельзя. Наконец, уже совсем в темноте, они набредают на относительно сухой пригорок и останавливаются, натягивают тент и раскладывают костер. Лес сразу становится иным. Там, где на него падает свет, он тянется в вышину стволами, озаренными неровными отсветами огня, а между стволами темнота.
Они сушатся. Худолеев разыскивает рядом под корневищем поваленной лиственницы лужицу вытаявшего льда, начерпывает кружкой в ведерко воды и подвешивает его над огнем варить скудный ужин. Анин достает из кожаного планшета карту и наносит на нее точку – место предполагаемой остановки. В ожидании ужина, темной сырой ночью, они сидят у огня в накинутых на голое тело плащах и ждут, когда высохнет одежда.
С охапкой дров, хоть с этим нет проблем, подходит Худолеев и, сбросив их у костра, подвигается к огню так близко, что от мокрых штанин валит пар. Невысокого роста, в резиновых сапогах, заплатанных штанах, телогрейке, из под которой выглядывает жилетка, он кажется порождением самой тайги. Он носит усы, ходит в «раскоряку», дышит натужно, с хрипотцой. Сказываются, очевидно, восемнадцать лет проведенных в шахте.

Первая ночевка…
У Худолеева темное прошлое, которое он осторожно пытается умолчать, но в разговорах оно все-таки проскакивает. Вот и сейчас, подвигая к огню намокшие ноги, он пускается в воспоминания:
– Эх, однажды я выкупался… в крещенье. Подрядился отец меня на праздник архиерея привезти. Кони у нас были добрые, по селу ни у кого таких не было. Взялся за сорок рублёв, а тогда, это в двадцать четвертом было, пуд крупчатки восемьдесят копеек стоил. Мне тогда семнадцать стукнуло. Запряг я тройку, туда домчал мигом, а обратно – архиерей, два прислужника, груз – лед и не выдержал. Это шестого декабря-то…
– Сколько же у вас лошадей было? – спросил Анин.
Худолеев вздрагивает как от удара, съеживается и, безнадежно махнув рукой, отвечает:
– Чего там… Было… А теперь вот никак не прикину, куда мне на зиму податься. Пойти, однако, в тайгу, золотишко еще помыть, пока здоровьишко еще не прошло…
– Ты, Михеич, откуда родом?
– Тамбовские мы.
– А-а… Тамбовские! С Антоновым гулял!
– Не… Мы люди мирные. Хозяйство у нас было крепкое…
– А как сюда попал?
– То в двадцать девятом переехали.
– Сами?
Худолеев криво усмехнулся и сплюнул в костер.
– Кого там «сами»! А за что?
– Ну, как? С Антоновым не гулял, но ведь сочувствовал? Обрезом не баловал, допустим. А хлебушком помогал?
– Кто сейчас упомнит? – уклончиво ответил Худолеев.
– А все-таки, за что? Хозяйство, говоришь, крепкое! А что значит – крепкое?
– Крепкое значит крепкое! В долг не просили.
– Понятно. А работал кто?
– Отец работал. Трое братьев нас…
– А батраки?
– Так то в страду, когда самим не управиться.
– Вот видишь? И батраки! Время-то новое пришло, строй другой, а вы по-старому норовили жить.
– Так в Сибирь-то за что?
– Не я судил, не знаю. Только сам скажи: реквизировали у вас хозяйство, согласились вы?
Худолеев молчал.
– Не согласились! А тут, и двенадцати лет не прошло, война! Немец нагрянул. Вы на чьей стороне были бы?
– Так что же мы, своему народу супостаты?
– Вот это ты правильно говоришь… Здесь!.. Сейчас!.. А тогда иные и по-другому рассудили.
– Я за других не ответчик.
– Точно! Поэтому мы с тобой и сидим сейчас рядом, и курим. А «иные» в другом месте.
Вода в ведерке вскипела и побежала через край.
– Студент!
– А! – встрепенулся Иван. Слушая внешне миролюбивый разговор Михеича с Яковом Родионовичем, он отвлекся, вспомнил отца.
Взяли отца в 49-м, а вернулся он в 55-м, год назад, по реабилитации. Вернулся назад, но каким-то другим, постаревшим, тихим, молчаливым. Иван сразу поинтересовался:
– Как там?
– Дома лучше.
Только и сказал, а посмотрел грустно. Больше к этому разговору не возвращались. Но Иван вспомнил, как вернулся отец. Не по бесплатному «литеру», на скудные рубли купил билет в купейный вагон. Ехал «как все». А костюмчик затасканный, воротник на рубашке истертый… Встречали его на вокзале всей семьей. Плакали, целовались, смеялись. Отец держался достойно. Только губы дрогнули, когда увидел всех со ступенек вагона.
– Я же говорил: по ошибке! – сказал он. – Забудем.

Встречали всей семьей…
Но нет, не забыли эти годы ни мать, ни Иван. И сам отец не забыл. Не говорил только о том времени.
А сейчас Худолеев как бы воскрешал прошлое. И в этом прошлом личные судьбы отца и Михеича стояли рядом.
«Рядом? – Иван был удивлен своим открытием. – Не может быть!»
Он настолько углубился в воспоминания, что не сразу мог сообразить, что хочет от него Худолеев.
– Ты солил? – спрашивает его Михеич.
– Солил.
– Жаль.
– А что?
– Самое вкусное выбегает.
– Ну, Михеич! Я подумал, ты медведя увидел. С тобой не соскучишься!
Он снял ведро с огня и разложил картошку по мискам.
– Не рано? – спросил Анин.
– Горячо – сыро не бывает! – ответил Худолеев.
Поев, Анин первым обтирает свою миску и поднимается. Спать!
Но отвлечься от своих мыслей Иван не смог. Он спросил тихо, еще не убежденный, что надо вступать в разговор с уверенным в своей правоте малознакомым человеком.
– Значит, все что делалось – правильно?
– Правильно! – убежденно ответил Анин. – Потому что в том была объективная необходимость.
– А жестокость?
– Жестокость лишь высшая мера необходимости. Петр Первый положил при строительстве Петербурга около миллиона жизней. А знаешь, сколько в то время составляло население России?
– Сколько?
– Около пяти миллионов податных душ. Это значит около 20—30 миллионов человек.
– Значит, Вы считаете, что жестокость Петра Первого исторически оправдана?
– Жестокость никогда не оправдана, – ответил Анин. – Оправданной может быть только необходимость.
– Необходимость в жестокости?
– Необходимость действия. Но, может быть, и жестокости. Политическая борьба это борьба за власть крупных социально различных групп населения. И послабления здесь чреваты. Пример – Парижская коммуна – Пострадавший этого не поймет.
– Пострадавший – возможно, но политически грамотный непременно! – Анин начинает устраиваться на ночлег. – Спать! Разговор интересный, мы его продолжим в другом месте.
– В ГПУ? – спрашивает Михеич.
Яков Родионович смеется долго, никак не может остановиться. Аж слезы выступили на глазах. Наконец он успокоился:
– Ну, Матвей Михеич!.. Поговорили!..
И снова утро, серое, но без дождя. Одежда почти сухая. Анин посмотрел на воду, которую они вчера в темноте пили сырой. Мутная желто-молочная жидкость.
– И эту воду вчера мы пили с наслаждением!
Худолеев, не отвечая, ставит воду на огонь. Вскипятив, отламывает от плитки небольшой кусочек чая и заваривает. Они пьют горячий чай с маленьким кусочком хлеба, потом Анин шарит по карманам, выскребая последние крошки махорки. Но, все, что можно было, он выскреб еще вчера. Он отряхивает табачную пыль и поднимается.
– Пошли.
И снова болота, чаща, густые заросли пихтача, повальник, гари. Они идут медленно, очень медленно, часто делая остановки. Иногда попадаются кедровые шишки. Они вышелушивают орехи и на ходу грызут их. Это приглушает голод, но отвлекает и один раз Анин проваливается в болото по пояс, а второй раз падает и промокает «до нитки». Они выбираются на пригорок и, пока он сушится, Худолеев копает шурф. Копает он удивительно быстро и аккуратно. Анин еще не успевает обсохнуть, а метровый шурф уже готов. Глубже копать нельзя, проступает вода.
Анин перетирал пальцами влажный белый песочек со дна шурфа, когда Михеич прервал его размышления.
– Однако, странно Господь Землю сотворил. На правом берегу горы, грунт каменистый, золотишко водится. А здесь низменно. Куда ни ткнешь, песок да глина. К чему бы так?
– Я скажу, – ответил Анин, – только не по богу, а по науке… В давние времена земля раскололась, там, где теперь Енисей. Правый берег стал подниматься, левый опускаться.
– Бывает разве такое? – недоверчиво переспросил Михеич.
– Бывает. Как объяснить тебе не знаю. Ты сам должен знать больше, чтобы понять. Но, поверь. Наука говорит, что бывает. Так вот, когда правый берег поднимался, а левый опускался, с гор в низину устремились ручьи, реки, талые воды. А реки и ручьи что несут? Сам знаешь – песок, гальку. А в низине вода застаивалась, значит, накапливались глина, торфа. Это все еще до раскола. А когда раскололась земля, Енисей лег и отделил горы от низины.
На щеку ему падает первая капля дождя. Он вздрагивает. Надо идти, пока опять не промокли.

Комарье
И снова спуски, подъемы, болота, завалы. Мы идем со скоростью примерно 1—2 км в час. Над головой тучей вьется мошка. Идем в сетках. Это затрудняет наше продвижение, но имеет то преимущество, что ветки не так больно хлещут и царапают лицо.
А день опять кончается. Второй день. По предварительной наметке сегодня должны были выйти к зимовью, значит, завтра рискуем не дойти до заимки Пимушиных. А мы и так уже второй день под дождем.
Анин снова останавливается и сверяется с картой и компасом.
– Надо бы пройти сегодня еще немного, – говорит он.
Но деревья впереди уже становятся неразличимыми.
Привал подобен вчерашнему. Темнота. Костер. Лежаки из бревнышек. В чайнике булькает вода…
Все устали. И то, что не вышли к зимовью, удручает. Не заблудились ли. Тайга справа, тайга слева, тайга над головой. Вокруг тайга, мокрая, густая, неразличимая. Ты как под водой. Вынырнуть бы, да оглядеться. А как?
Вдруг Михеич нарушил молчание.
– Нет, однако. Если бы на месте Енисея была трещина, то вся вода под землю бы ушла. Нет?
– Ну, Михеич! Ты даешь!
– А все-таки?
– Так разлом земли еще не трещина. Породы плотно прилегают, палец не просунешь. Это так называемые «ослабленные зоны». И вода по ним поднимается, а не опускается. Справа она с гор стекает, то есть выше лежит, слева ее мерзлота подпруживает. А под Енисеем, в ослабленной зоне, водоупорные глины. И путь грунтовым водам только наверх. Потому Енисей такой многоводный.
– Воля твоя, Господи! Чудеса творишь!
– Михеич! А ты веришь в бога? – спросил Иван.
– Раньше верил.
– А сейчас?
– Сейчас и сам не знаю. Думаю, бог есть. Только как он допускает такое?
– Что «такое»?
– Ну, чтобы не верили в него.
– Религия всему находит объяснение. Говорят: испытание он послал людям, – сказал Анин. – За то, что не признали его, не поверили.
Михеич промолчал.
– А, кстати! Не слишком ли много испытаний? Война, например. Двадцать миллионов жизней только с нашей стороны. Разруха. Горе. А?
– Не хули бога! – угрюмо сказал Михеич.
– Веришь, значишь. Правильно! Верить надо. Я тоже верю. Только ты в свое, а я в свое.

Галея
– В своего бога? – удивился Иван.
– В бога я не верю. Но мало говорить: «Бога нет!». Надо объяснить, что же есть. Но если сказать «материя», или «объективная реальность, данная нам в ощущениях», это мало что объяснит. Михеич скажет: «Бог?! Материя?! Какая разница». А разница есть. Если мир создан богом, то он неизменен. Неизменны и отношения угнетения и эксплуатации, неизменна и созданная Всевышним природа. А если мир объективен, то есть существует реально сам по себе, то он и развивается по законам диалектического материализма. Познав эти законы можно преобразовывать мир на пользу человеку.
Вот мы, например, здесь затем, чтобы распознать закономерности Обь-Енисейского водораздела и повернуть воды Енисея в Обь. А если воды текут по воле Бога, мыслимо ли их повернуть?
Религия консервирует мышление, мешает реальному познанию, а, следовательно, и преобразованию общества и природы.
– Это как же? – не понял Михеич. – Против течения?
– Проект есть: повернуть воды сибирских рек в Каспий. Плотину поставят на Енисее, ниже Осиповских порогов, уровень воды поднимут и потечет она в Обь через Касовские галеи, там, где раньше волок лежал…
– Господи, – перекрестился Михеич. – Так это ж конец света! В священном писании сказано: «…и потекут реки вспять!»
– Нет, Михеич! Это не конец света. Это начало новой жизни. Ванюша наверняка доживет, он молодой…
– Может быть, – сказал Михеич и стал устраиваться на ночлег.

Вторая ночевка…
Он положил под голову топор, на него шапку и лег на бревнышки, как на нары, привычно и спокойно. Поверх себя он накинул телогрейку и из под нее смешно торчали его голые, мозолистые, изуродованные ревматизмом ноги.
Он лежал с закрытыми глазами, ощущая, как с одной стороны его обогревает огнем костра, с другой обдувает холодным ветерком с моросящим дождичком. Но не это мешало ему заснуть. Растревожил его начальник разговорами. Повернуть реки вспять! Сказка, конечно, но заманчива! Уж, кому-кому, а ему, крестьянскому сыну доподлинно известно, что может дать вода землям, пронизанным солнцем. Особенно черноземам. Но все его существо восставало против нового. Это новое лишило его родного крова, привело его сюда на «тропу будущего», к человеку из другого мира. Этот человек не кричал на него, не командовал. Он ел с ним из одного котелка, спал на таких же бревнышках. И ему не нравилось, когда его называли «начальник». Значит, ему м о ж н о было сказать слово поперек. А если можно, то ох как хочется – поперек! Чтобы видел: и он, Михеич, человек!
Иван тоже заснул не сразу. Бревнышки не казались ему жесткими. Он даже удивился, до чего же удобно вот так, на этих бревнышках. С сумкой под головой и телогрейкой поверх. Его ботинки сушились на двух колышках, но на ноги он натянул сухие и потому теплые шерстяные носки, домашние. Он лежал и сквозь невысокое пламя костра видел неподвижную фигуру Михеича. Смешно торчали из-под телогрейки его босые ноги. Блики огня ложились и на лезвие топора под головой. И Иван вдруг подумал: «А что если он ночью топором, по доброй памяти двадцать девятого года»? И тут же другая мысль, успокаивающая: «Однако, не решится. В тайге он не заблудится. Факт! Но куда ему потом? На Енисей? – спросят: „С кем он был? Где они?“ К кержакам? Дороги не знает. Когда выйдем к заимке Пимушиных, тогда другое дело. Хоть и староверы там, а все-таки к нему ближе. В бога верят. Советской власти сторонятся. А здесь – нет! И Яков Родионович спит спокойно…».

Без накомарника совсем туго…
Но Анин не спал. Нет, его не беспокоили мысли о Михеиче. Он знал, видел: Михеич смирился со своей участью. На решительное не способен. Нет для него ни дождя, ни тяжелых завалов, ни мокрых болот. Много месяцев прошло с того дня, как он прочитал в «Литературной газете» статью В. Юрезанского «Цвести садам в пустыне». В этой статье говорилось: «Сибирь, где протекают величайшие реки мира – Обь, Енисей, Лена – исключительно многоводна. Но воды Сибири идут через тайгу, через тундры, в край стужи, к Северному Ледовитому океану. Они почти не служат нам. Надо эту географическую нецелесообразность исправить!.. – и далее, развивая план инженера Давыдова, план поворота сибирских вод в пустыни Средней Азии, автор писал: – Поднятая плотиной вода Оби пойдет обратно на юг и, выйдя на южный склон Тургайских ворот, поступит в Аральское море, которое поднимется на один метр и из горько-соленого станет пресным… Из Аральского моря могучий поток сибирских вод вступит в Сары-Камышскую котловину, а из нее старым руслом Узбоя в Каспийское море. Водохранилище, созданное подпором Оби, может быть усилено водами Енисея. Для этого у Осиновских порогов, в устье Подкаменной Тунгусски, надо построить плотину, поднимающую уровень реки на 70—80 метров и направить сток воды через водораздел междуречья в приток Оби – Кеть…».
И вот теперь он идет по этому пути. Ему поручено провести первые изыскания, протянуть первую ниточку, по которой потом в эту землю будут вгрызаться экскаваторы. А ведь война, можно сказать, кончилась только-только. Еще не восстановлено разрушенное. Люди еще не привыкли к гражданским профессиям. А страна уже смотрит в будущее! В далекое будущее! И красота его, Якова Родионовича, профессии в том, что позволяет идти ему впереди века. Он сейчас на дороге в будущее. Он уже видит, как высокая плотина поднимает уровень воды в Енисее и они через Большой Кас, через Маковский волок устремляются в Кеть, а оттуда в верхнюю Обь. Ради такого стоит потрудиться. Но с кем он должен выполнить эту работу? Михеич смотрит если не в прошлое, то из прошлого. А Ивану хотя и жить в будущем, но что он знает о нем?
Bepul matn qismi tugad.