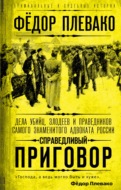Kitobni o'qish: «Почему оправдали девушку-«террористку»? Дело Веры Засулич»

© ООО «Издательство Родина», 2022
Воспоминания о Вере Засулич
В. Вересаев

В июле 1877 года, по приказанию петербургского полицмейстера генерала Трепова, был высечен в тюрьме политический заключенный, студент Боголюбов. 24 января 1878 года молодая девушка Вера Засулич явилась к Трепову в качестве просительницы и в тот момент, когда он принимал от нее бумагу, выстрелила в него из револьвера и ранила. Затем бросила револьвер и спокойно дала себя арестовать. На допросе она заявила, что стреляла в Трепова за Боголюбова, что лично Боголюбова не знает, а мстила Трепову за издевательство над политическими заключенными. Решено было судить Веру Засулич судом присяжных. Министр юстиции граф Пален ручался царю за обвинительный приговор. Однако фактическим обвиняемым на суде оказался, вместо Веры Засулич, генерал Трепов. Присяжные вынесли Вере Засулич оправдательный приговор, встреченный общими рукоплесканиями. По приказанию председателя Засулич была освобождена. На улице, при выходе из здания суда, ее ждали жандармы и хотели арестовать. Но толпа вступила с жандармами в свалку и отбила девушку. Она успела сесть в приготовленную карету и скрыться. Через некоторое время ей удалось бежать в Швейцарию. Дело Веры Засулич вызвало огромную сенсацию и прославило ее на весь мир.
За границею Вера Ивановна прожила более двадцати лет. С зарождением русского марксизма она всею душою примкнула к этому течению и вошла в группу «Освобождение труда», во главе которой стояли Плеханов и Павел Аксельрод. После 1905 года Засулич получила возможность возвратиться в Россию и уже безвыездно прожила в ней до самой смерти.
Однако приезжала она однажды в Россию и раньше, до своего легального возвращения. Было это зимою 1899–1900 г. Целью ее поездки было установить непосредственную связь с работавшими в России социал-демократами, лично ознакомиться с их настроениями и взглядами и выяснить им позицию группы «Освобождение труда» в возникших за границею конфликтах. Жила она, конечно, по подложному паспорту, и только несколько человек во всем Петербурге знали, кто она. В это время я с нею и познакомился.
Невысокая седенькая старушка, небрежно причесанная, кое-как одетая, с нервно подергивающеюся головою, постоянно с папироскою во рту. Говорила она быстро, слегка как будто захлебываясь. Но улыбка у нее была чудесная – мягкая, застенчивая и словно извиняющаяся. Она была умна, образованна и остроумна, спорила искусно, возражения ее были метки и сильны. Но высказывала она их с этою милою своею улыбкою, словно извинялась перед противникам, что вот как ей это ни тяжело, а не может она с ним согласиться и должна ему возражать.
Скромна она была необычайно, к всемирной известности своей относилась с усмешкою: мало ли в семидесятых годах было террористических покушений, мало ли было революционеров, действовавших гораздо искуснее и смелее ее, – а имена их никому почти не известны. Своею же славою она обязана чистейшему случаю, – что царскому правительству вздумалось применить к ней «народный суд» и попытаться показать Европе, что сам русский народ и общество относятся отрицательно к кучке баламутов-революционеров.
До известной степени Вера Ивановна была права: конечно, если бы ее судили обычным негласным судом, имя ее было бы известно только людям, специально интересующимся историей русской революции. И все-таки мало я видел людей, которые бы так скромно и даже неохотно несли выпавшую на их долю известность. Слава иногда портит и уродует даже самую хорошую душу. Когда все кругом потихоньку указывают друг другу на знаменитого человека, когда почтительно прислушиваются к каждому его слову, гордятся и хвалятся знакомством с ним, то очень много нужно душевной силы, чтобы не стать суетным, тщеславным и нетерпимым. Вот в чем нисколько не была грешна Вера Ивановна. Она была так застенчиво-скромна, так всегда старалась держаться в тени что иногда с нею случались довольно-таки курьезные недоразумения.
Мы, петербургские литераторы-марксисты, группировались тогда в кружок, собиравшийся обыкновенно у А. М. Калмыковой, известной деятельницы по народному образованию.
Был, между прочим, в нашем кружке один молодой критик и публицист – человек талантливый, с самостоятельною мыслью, с интересными переживаниями. Но была у него одна очень неприятная черта: он умел быть внимательным, чутким собеседником с лицами, которые его интересовали. Но с людьми, ему неинтересными, он держался не то чтобы высокомерно или небрежно, – а просто они для него совершенно не существовали, были пустотою, которой он даже не замечал. В то время его особенно интересовал вопрос о различии морали старого народничества и нового народившегося марксизма. Характерною чертою народничества, как течения чисто интеллигентского, он считал «болезнь совести», особенностью социал-демократизма – «болезнь чести»: старый народник-интеллигент шел в революцию вследствие поруганной совести – нужно бороться за страдающий и угнетенный народ. Новый революционер, рабочий, идет в революцию вследствие поруганной чести: такие же люди, как все, мы не хотим больше страдать и терпеть угнетение. На эту тему приятель наш вел б то время журнальную полемику с Н. К. Михайловским. На эту же любимую свою тему заговорил он и в нашем кружке при Вере Ивановне. Говорил он много и с одушевлением. Вера Ивановна несколько раз пыталась ему возражать, но он только сверкнет пренебрежительно своим пенсне на скромную старушку в углу, неохотно протянет:
– Да-а, пожалуй!
И, даже не удостоив выслушать ее, продолжает говорить сам или слушать возражения противников, которые его интересовали. И Вера Ивановна сконфуженно умолкала.
Прошло с год. Однажды, беседуя на ту же тему, он говорит мне:
– Знаете, с кем бы мне всего интереснее было поговорить об этом? С Верой Засулич, Вы помните, как ее описывает Степняк-Кравчинский в «Подпольной России»? И такой человек, с чисто народническою душою, стал социал-демократом! Правда, интересно бы с нею поговорить? Ей-богу, готов бы за границу поехать, только чтоб с нею побеседовать.
Я лукаво говорю:
– Вы с нею беседовали год назад. И как раз на эту тему. Только не пожелали ее слушать.
– В чем соль вашей шутки? Не понимаю.
Вера Ивановна давно уже уехала за границу, конспирировать было нечего. Я напомнил приятелю о скромной старушке в уголке на одном из наших прошлогодних собраний.
– Это была Вера Засулич.
Он вскочил.
– Да нет! Да неужели же! Я припоминаю, в уголке сидела какая-то серая старушонка. Я про нее спросил Калмыкову, она сказала, что это ее родственница из провинции. Ах ты, досада! В одной комнате с нею просидел целый вечер!..
После революции 1905 года Вера Ивановна получила возможность легально воротиться в Россию. Она поселилась в Петербурге. Сотрудничала в социал-демократических журналах и газетах, много переводила, но, сколько мне известно, активно в партии уже не работала.
В Тульской губернии у близких моих родственников было небольшое имение. Молодежь этой семьи деятельно работала в революции, сыновья и дочери то и дело либо сидели в тюрьмах, либо пребывали в ссылке, либо скрывались за границей, либо высылались в родное гнездо под гласный надзор полиции. Однажды летом к одной из дочерей приехала туда погостить Вера Ивановна. Место очень ей понравилось, и она решила тут поселиться. Ей отвели клочок земли на хуторе, отстоявшем за полторы версты от усадьбы.

В убогой своей избушке она писала и переводила. Способ работы у нее был ужасный. Когда Вера Ивановна писала, она по целым дням ничего не ела и только непрерывно пила крепчайший черный кофе. И так иногда по пять-шесть дней. На нервную ее организацию и на больное сердце такой способ работы действовал самым разрушительным образом. В жизни она была удивительно неприхотлива. Сварит себе в горшочке гречневой каши и ест ее несколько дней. Одевалась она очень небрежно, причесывалась кое-как.
Раз идет по тропинке через зреющую рожь крестьянская баба. Вдруг ей навстречу простоволосая растрепанная старуха с трясущеюся головою, с торчащим изо рта зубом. Настоящая баба-яга. Женщина шарахнулась в рожь
– Мать честная!.. Да воскреснет бог!..
Но душа этой неизящной на вид старухи была удивительно изящная и тонкая. То сравнительно немногое, что она написала, написано изящно и умно, переводы ее очень хороши. Вера Ивановна чувствовала красоту во всем. Но особенно она любила ее и чувствовала в русской природе. На своем небольшом клочке земли она развела садик и с утра до вечера копалась в нем. Никогда в жизни не видел я такого оригинального садика. Там было мало обычных садовых цветов – всех этих левкоев, настурций, резеды. Но очень много было цветов полевых и лесных. Понравится ей цветок где-нибудь на меже около ржи, на луговом откосе или в лесной лощинке под кустом орешника, – Вера Ивановна бережно выкапывает его и пересаживает к себе в садик. И здесь, на хорошей земле, при тщательном уходе, цветок развивался так пышно, что нельзя было его и сравнивать с братьями его, жившими на воле. Она очень этим гордилась. Однажды она мне сказала:
– Вот так и с людьми. Дать им подходящие условия, поставить в нужную обстановку, – и как они могут быть прекрасны!

Из воспоминаний о покушении на Трепова
В. Засулич
Нечаевское дело1
I
Каракозовское дело, конечно, займет в истории нашего движения гораздо более скромное место, чем нечаевское. Его подробная история, быть может, станет известной не раньше, как документы III отделения подвергнутся разработке2.
Это был заговор дело, тайное не для полиции только, но и для окружающих его более мирных элементов, на которых старались действовать члены общества. Ишутин уговорил их в таком роде: наступит великий час, мы люди, обреченные; этот час называл прекрасной Фелициной. Судя по рассказам о нем, это был тип революционера, умевший разжигать настроение слушателей представлением о чем-то великом и таинственном. Как кружок, это общество существовало с 63 г.; члены его обучали в школе, имели 2 ассоциации и сообща устроенное3 общежитие4. Во всяком случае, к осени 65 года это были уже заговорщики: члены принимались с клятвами, и в их среде успел уже даже образоваться раскол5, более крайние составляли, так сказать, общество в обществе под названием «Ад»6. Целью его было, вернее шла в нем речь, об избиении царской фамилии, при чем крайние стояли за предварительную агитацию, пропаганду. Оно приговорило 17 чел. После выстрела Каракозова полиция напала на след этого заговора.
Система, как вести себя на следствии, в то время не могла даже и начать еще вырабатываться, люди, как видно, по большей части считали нужным на каждый вопрос следователей давать более или менее правдоподобный ответ, лживый, конечно, кроме нескольких предателей, – нашлись и предатели. Начались очные ставки, уличения во лжи, давались новые объяснения: запутались даже такие люди, как сами Худяков, Ишутин; и понемногу все члены без исключения были открыты7: нелегальность тогда изобретена не была, дожидаясь ареста, спокойно оставались на своем месте; все были переловлены и посланы в Сибирь.
С тех пор о каракозовцах не было слышно: никто из них не выплыл в позднейшем движении, а они только и могли бы подробно рассказать о своем деле8.
В последнее время появились воспоминания Худякова9, но там подробно рассказано следствие, поскольку оно касалось… самого Худякова, о московском тайном обществе, из которого вышел Каракозов, его он едва касается. Он говорит, что это были люди энергичные, талантливые, выработанные, но все они скоро были изловлены и отправлены в Сибирь; на свободе были оставлены только люди, оказавшиеся, после подробнейшего рассмотрения самой муравьевской комиссии10, вполне невинными, а, следовательно, уже действительно невинные. Опыта, традиции внести в новое движение они не могли, а также не могли составить ядра, вокруг которого группировались бы новые элементы.
«Что делать» Чернышевского продолжало перечитываться молодежью, но самый доступный легко исполнимый из являвшихся прежде вопросов на поставленный в заголовке романа вопрос – заводить ассоциации – уже не удовлетворял. В предыдущий период ассоциации, по большей части швейные, росли, как грибы, но большая часть из них вскоре распадалась, а некоторые кончались третейскими судами, ссорами. Заводились они по большей части женщинами, настолько состоятельными, чтобы купить: швейную машинку, нанять квартиру, нанять на первый месяц, пока не будут разъяснены им принципы ассоциации, двух или трех опытных модисток. В члены набирались частью нигилистки, не умевшие шить, на горячо желавшие «делать», частью швеи, желавшие только иметь заработок. В первый месяц сгоряча все шили очень усердно, но более месяца шить по 8 – 10 час. в день ради одной пропаганды примером принципа ассоциации, к тому же без привычки к ручному труду, мало у кого хватало терпения. Шить начинали все меньше и меньше11. Мастерицы негодовали и сами начинали небрежно относиться к работе; заказы убывали. Лучшие работницы скоро покидали мастерскую, так как приходившиеся на их долю части дохода оказывались меньше жалованья, которое они получали от хозяина, несмотря на то, что основательницы по большей части отказывались от своей доли. Иногда дело кончалось тем, что мастерицы забирали себе машины и основательниц выгоняли из мастерской. Устраивались третейские суды. «Сами же постоянно твердили, что машина принадлежит труду», – защищалась бойкая мастерица перед таким судом, на котором мне случилось присутствовать. «А уж какой а них был труд, как есть никакого; только, бывало, разговоры разговаривают!» Суд не признал, однако, мастерицу олицетворением «труда» и присудил машинку возвратить.
Также плохо шли и переплетные мастерские, хотя там менее сложный и не требующий долгой предварительной подготовки труд был более приспособлен к ассоциации.
В 69 году затишье, наступившее вслед за каракозовщиной, еще продолжалось во всей силе. Из людей 60-х годов иные сошли со сцены, другие куда-то попрятались, и12 зеленой молодежи, подъезжавшей из провинции после погрома, не было к ним доступа. Она оставалась совершенно одна; ей предстояло отыскивать дорогу собственными силами. Каракозовщина не оставила ядра, около которого она могла бы группироваться13. Я говорю, конечно, о среднем уровне молодежи, затронутой разыгравшимся зимою 68–69 годов в Петербурге прологом нечаевского дела. Такая изолированность молодежи, отсутствие пропаганды в ее среде, отсутствие соприкосновения с людьми сложившегося миросозерцания, могущими помочь14 в разрешении вопроса: «что делать?», – приводило ищущую дела молодежь в тоскливое, тревожное состояние.
Те надежды, с которыми ехала она в Петербург, оказывались обманутыми. Начало 60-х годов облекло столицы, а в особенности Петербург, в самый яркий ореол. Издали, из провинции, он представлялся лабораторией идей, центром жизни, движенья, деятельности. В провинции между семинаристами и гимназистами седьмого класса, между студентами провинциальных университетов образовывались маленькие группы юнцов, решившихся посвятить себя «делу», как тогда многие выражались вкратце, или даже просто – «революции». А за выяснением, что это за «дело», что за «революция», начинали рваться в Петербург: там все узнаем, там-то выяснится. Дорвавшись, наконец15, предолевши иногда для этого, при крайней бедности большинства16, величайшие затруднения, они являлись в Питер иногда целой группой, человек в 5–6, и начинали всюду толкаться, знакомиться, расспрашивать, но, натыкаясь везде, куда они могли проникнуть, на ту же шаткость и неопределенность понятий, на те же нерешенные вопросы, на «ерунду», от которой бежали из провинции, они скоро впадали в уныние, тревожное состояние. Но, после яркого, насильственно задавленного движения начала 60-х гг., чувствовалась просто потребность в каком-нибудь проявлении движения, так что, например, фразы: «Хоть бы студенческое движение что ли было!» можно было слышать еще летом, Прежде чем студенты съехались.
II
Не знаю, кому первому пришла идея затеять студенческие волнения, вероятно, многим сразу17 в таких-то кружках, о которых я только что говорила, в особенности являвшихся в Петербург на второй год и уже успевших разочароваться в нем, идея студенческих волнений должна была встретить живейшее сочувствие. Конечно, это не «дело», не работа для «блага народа», не «революция», но хоть, «что-нибудь», какая-нибудь «жизнь». Уже в начале18 осени 1868 года19 во многих студенческих кружках можно было слышать, что20 к рождеству непременно будут студенческие волнения, что будут требовать касс и сходок. Кассам то, собственно, несмотря на крайнюю бедность, придавалось лишь второстепенное значение: добьемся их – хорошо, но если не добьемся – тоже хорошо; сходки привлекательны сами по себе.
Они, действительно, сами по себе, независимо от цели, должны были удовлетворить реальную действительную потребность в движении, в общественной жизни. Некоторые инициатору движения на сходки возлагали и другие, более определенные, надежды: на них ознакомятся между собою лучшие люди из молодежи, образуется и сплотится кружок из наиболее определившихся людей, выдвинутся и выработаются способные деятели21.
Всю осень шла агитация, и в декабре, действительно, начались сходки22. Собирались эти сходки на частных квартирах, всегда на разных. Иной раз23, какая-нибудь зажиточная семья предоставляла по знакомству в распоряжение24 инициатора сходки свою залу, в которую и набивалось битком 2–3 сотни студентов. Иногда собирались и на студенческих квартирах, и тогда сходка разбивалась на две-три группы по числу комнат, так как в одной всем уместиться было невозможно. Всем приходилось, конечно, стоять, и теснота бывала обыкновенно страшная. На Рождестве сходки особенно участились25. Собирались студенты из университета и из26 технологического института, но самый большой процент составляли медики27. На сходки ходило также человек 10–15 женщин; женских курсов в то время не было, приходили просто женщины, сочувствовавшие движению студентов28.
На самых больших и удачных сходках ораторы обыкновенно влезали поочередно на стул и оттуда произносили свои речи, вертевшиеся на первых порах на необходимости для студентов иметь кассы и право сходок. Никакое бюро при этом не выбиралось, а раздачей голосов заведовала группа инициаторов, достававшая также квартиры, оповещавшая о месте сходок и т. п.
В числе этих инициаторов29 был и Нечаев. Во всеуслышание он говорил редко; на стуле почти не появлялся30 воля его чувствовалась всеми. Он заботился о достаточном количестве ораторов, в которых, в начале особенно, чувствовался недостаток. С личностями, чем-нибудь выдвинувшимися, отличившимися, тотчас же знакомился, уводил к себе в Сергиевское училище, где он занимал место учителя, и сговаривался, о чем говорить в следующий раз31.
Никакой тайны из этих сходок не делали, наоборот, на них старались затащить всех и каждого. На рождество несколько усердных пареньков взяли даже на себя обязанность, переписавши в конторах заведений адреса студентов I и II курса (остальные считались безнадежными, так как из них посетителей сходок не насчитывалось и десятка), Обегать все квартиры и звать всех на сходки. Тем, кого не заставали дома, оставляли записочки с адресом ближайшей сходки и с несколькими упреками, зачем, мол, не ходит.
Сведения о сходках начали появляться даже) в газетах, а в одном фельетоне им было; посвящено одно довольно безграмотное юмористическое – стихотворение, кончавшееся такою любезностью:
«Ах надо, как надо
Для этого стада,
Для стара и млада,
Лозы вертограда».
Полиции сходки тоже были не безызвестны, и на одной, например, многие из входивших слышали:, как два полицейских у ворот пересчитывали посетителей: 91-й, 92-й и т. д. Но пока никого не тревожили.
В начале, когда речь шла о необходимости касс и сходок, никаких возражений не являлось, но как только заговорили о средствах для приобретения этих благ, начались разногласия. Группа инициаторов и часть студентов, склонявшаяся к ее мнению32, высказалась за подачу прошения за подписями возможно большего числа студентов министру народного просвещения (иные высказывались за наследника, некоторые предлагали удовольствоваться на первый раз университетским начальством); если же прощение не будет принято или ответ на него последует неудовлетворительный, необходимо будет устроить демонстрацию, для которой тоже предлагались различные проекты – (от сходок и криков в аудиториях) до шествия толпой ко дворцу.
Противники этих проектов, главным оратором которых явился студент университета Езерский, возражали, что; коллективного прошения, конечно, не примут, за демонстрации же исключат и вышлют, что к тому же, если бы даже подписались под прошением все бывающие на сходках, все же их было, бы крошечное меньшинство, так как33 студентов в Петербурге несколько тысяч, а на сходки ходят лишь сотни; рассчитывать же на подписи таких студентов, которые боятся прийти, было бы глупо; словом, что таким путем касс и сходок не добьешься.
Сторонники демонстраций, – нечаевцы или «радикалы», как их начали называть в то время не совсем удачное название, только что введенное, приобревшее впоследствии право гражданства для обозначения членов революционных кружков), – возражали не столько опровержениями, сколько упреками в трусости, в неискренности, спрашивали: какой же путь могут они предложить с своей стороны для приобретения касс и сходок? Противники отвечали, уклончиво. На общих сходках и те, и другие, видимо, не договаривали до конца. Ha частных же собраниях, в кругу единомышленников, езеровцы говорили, что кассу можно устроить и без дозволения начальства; если не поднимать о ней большого шума, то на нее, наверное, посмотрят сквозь пальцы; сходки же можно заменить литературными, музыкальными и т. п. собраниями. И большинство, видимо, склонялось на сторону Егерского.
Нечаевцы же в своих интимных собраниях говорили, что, конечно, демонстрациями касс и сходок не добьешься, да их и не нужно, они только34 развратили бы молодежь, облегчив, ее положение, но что демонстрации нужны для возбуждения духа протеста среди молодежи.
С самым близкими, доверенными людьми Нечаев шел еще дальше и рисовал приблизительно такой план: за демонстрациями, конечно, последуют высылки на родину. Они отзовутся в других университетах, и оттуда тоже по высылают лучших студентов. Таким образом, к весне по провинциям рассыплется целая масса людей недовольных, возбужденных и, следовательно, настроенных очень революционно. Их настроение, конечно, сообщится местной молодежи и главным образом семинаристам, а эти последние по своему положению почти ре разнятся от крестьян, и, разъехавшись на вакации по своим родным селам, сольются, сблизятся с протестующими элементами крестьянства и создадут революционную силу, которая объединит народное восстание, момент которого приближается. (Это приближение момента и говорившими и слушавшими принималось за аксиому, не требующую доказательств. Сомнение было бы принято за неуважение к народу: «Ведь он недоволен, обманут, так неужели вы думаете, что так вот он и станет сидеть, сложа руки?»).
Между тем, сходки принимали все более и более бурный характер, и многие из езеровцев уже перестали ходить на них. Становилось очевидным, что в прежнем виде движение продолжаться не может и должно или разрешиться чем-нибудь, или принять иной характер. Собралась еще сходка. В самом начале Нечаев взял слово и заявил, что уже довольно фраз, что все переговорили, и тем, кто стоит за протест, кто не трусит за свою шкуру, пора отделиться от остальных; пусть, поэтому, они напишут свои фамилии на листе бумаги, который оказался уже приготовленным на столе.
Группа инициаторов подписалась первая, а за ними бросились подписывать и другие. На листе стоял уже длинный ряд фамилий, когда послышались протесты, что это глупо, бессмысленно, что лист может попасться в руки полиции. Подписи прекратились; послышались даже требования уничтожить лист, но он уже был в кармане Нечаева35.
На следующий день среди знакомых Нечаева разнесся слух, что после сходки его и еще двух студентов призывали к начальнику секретного отделения при полиции, Колышкину, который заявил им, что, если сходки будут продолжаться, они трое убудут арестованы и посажены в крепост. При этом прибавлялось, что Нечаев настаивает, чтобы сходки продолжались, что уступить перед такими угрозами было бы постыдно. Сходку действительно созвали, но после истории с подписями никто из езеровцев на нее не явился; оставшихся же верными насчитывалось не более 40–50 чел.
При таком меньшинстве нечего было и думать, конечно, о демонстрациях, и бедные радикалы добранили вволю езеровцев: «Консерваторы, мол, подлые, трусы этакие» – не знали, о чем и говорить. Первого слова ждали от инициаторов, конечно, и главным образом от Нечаева, но он не являлся, а вместо него прибежал его сожитель Аметистов, – адъютант, как шутя называли его некоторые36 а – и объявил, что Нечаев арестован: он рано утром, когда Аметистов еще спал, ушел из дому и с тех пор не возвращался, а перед вечером одна из его знакомых37 получила по городской почте странное письмо38, в котором говорилось: «Идя сегодня по Васильевскому острову, я встретил карету, в которых возят арестантов, из ее окна высунулась рука и выбросила записочку, при чем я: услышал слова: Если вы студент, доставьте по адресу. Я – студент и считаю долгом исполнить просьбу. Уничтожьте мою записку». Подписи не было. В записку была вложена другая на сером клочке бумаги; карандашом было написано рукою Нечаева: «Меня везут в крепость, какую – не знаю. Сообщите об этом товарищам. Надеюсь увидаться с ними, пусть продолжают наше дело».
III
Арест произвел сильное впечатление. О Нечаеве взялось хлопотать его училищное начальство: он был на хорошем счету – очень строг с учениками и прекрасно вел дело. Но на вопросы училищного начальства получился ответ, что Нечаев не арестован, что даже распоряжения об его аресте никакого не было. За месяц перед этим Нечаев выписал из Иванова свою сестру, девушку лет 17. Простая, почти безграмотная, она просто обожала брата, гордилась им безмерно, и весть об его аресте приводила ее положительно в отчаяние. Она побывала у всевозможного начальства: в III Отделении, у коменданта крепости, у Колышкина и на своем владимирском наречии просила «дозволить, бога ради, повидаться с братом». Ей всюду отвечали, что в числе арестованных его нету. Это возбуждало ужасное негодование: «Что за варварство – арестовать человека и не только не давать свидания, а даже отрицать, что его арестовали!». Такая таинственность производила сенсацию.
Об аресте Нечаева заговорили повсюду39, пикантность его секретного похищения правительством скоро сделала из него какую-то легендарную личность. Усомниться в аресте никому и в голову не приходило, хотя близко знавшие его люди припоминали, что в последнее время он очень усердно занимался французским языком, несмотря на то, что, казалось бы, в такое горячее время ему было совсем не до пополнения своего образования; он продал также за неделю все свои книги40. Но ведь он просто, во-первых, не приобрел бы популярности, да и студенческое движение, по всему вероятию, прекратилось, бы, а теперь была надежда что оно будет продолжаться; быть может, студенты за арест обидятся, и дело дойдет до протеста. Обидеться-то обиделись, но не совсем сильно: поговорили о том, чтобы просить университетское начальство, но оказалось, что Нечаев был записан только вольнослушателем, да и то на лекциях не бывал, так что протест против его ареста не состоялся.
Нечаев тем временем побывал проездом в Москве и, кое с кем познакомившись, проехал на юг, а оттуда морем за границу.
Между тем, сходки нечаевцев продолжались, но под влиянием таинственного ареста приняли другой характер.
На них уже не тащили всех и каждого, а если приводили новых лиц, то только коротких знакомых, о которых предупреждали заранее. Ни о кассах и сходках, ни о демонстрациях речей уже41 не говорилось. Для общих речей с влезанием на стул; и вообще уж не говорили, а рассуждали, разбившись на группы, и только, если в какой-нибудь из групп разговор сильно оживлялся, остальные примолкали и окружали ее. Говорили обо всяких более или менее запрещенных вещах, о предстоящих бунтах. Те, кому случилось быть очевидцем или слышать рассказы о бунтах в своей местности, рассказывали подробности, расспрашивали о каракозовщине, – мало кто знал об ней что-нибудь определенное, – пытались говорить и о социализме, и наивные же то были речи!42 Один рыжий юноша, напр., с жаром ораторствует перед группой человек из 10:
– Тогда все будут свободны, – ни над кем никакой не будет власти. Всякий будет брать, сколько ему нужно, и трудиться бескорыстно.
– А, если кто не захочет, как с ним быть? – задаст вопрос один юный скептик.
На нервном лице оратора выражается искреннейшее огорчение. Он задумывается на минуту.
– Мы упросим его, – говорит он, наконец, – мы ему скажем: друг мой, трудись, это так необходимо, мы будем умолять его, и он начнет трудиться.
– Ну, если Ижицкий43 к кому пристанет, так уж он и самого ленивого упросит, – шутят товарищи.
Собирались теперь эти сходки аккуратно раз в неделю на одной и той же большой студенческой квартире на Петербургской стороне. Некоторые сходки начинались чтением какого-нибудь литературного произведения: читали сказки для детей Щедрина, новые стихи Некрасова, Тройку. Стихотворение: «Какое адское коварство, – ироническое обращение автора к бледному господину лет 19, – ты замышлял осуществить? Разрушить думал государство или инспектора побить?» – мы, помню, приняли на свой счет. И, действительно, все как раз подходило, начиная с возраста. Хотя было между нами несколько «стариков», – лет 22–23, но зато было много и 17-летних. Перед этим мы только что, месяца 1½, протолковали о своего рода побиении инспектора, т. е. о студенческой демонстрации, а теперь начали понемногу переходить к разговорам о «разрушении» государства44.
На одном из собраний было предложено устроить мастерскую, в которой студенты могли бы обучаться; ремеслу. Необходимость этого мотивировалась, между прочим, тем, что перспектива диплома и карьеры развращает студентов. На первом и втором курсах жаждут движенья, с радостью бегут на каждую сходку, интересуются общественными делами, а как почувствуют близость диплома, так их уж ни на какую сходку и не затащишь. Потолковавши, решили устроить на первый раз кузницу и сейчас же сделали сбор с присутствовавших; кто внес рубль, кто и больше, и все обязались продолжать эти взносы ежемесячно. Всем очень нравилось иметь свое предприятие. Из неопределенного брожения начинало вырабатываться нечто вроде кружка. Запрещенных тем никаких у нас не было, но было несколько рукописей: «Письма без адреса»45, «Письмо Белинского к Гоголю»46.