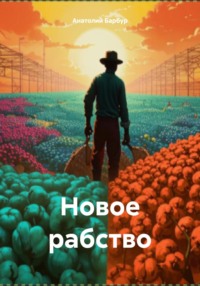Kitobni o'qish: «Новое рабство»
Предисловие
Советский Узбекистан. Хлопок. Слова, рисующие в воображении знойные поля и вереницы тружеников. Но что скрывается за этой хрестоматийной картинкой? Что мы знаем о подлинной истории «белого золота»?
Наверняка многим знакомы лишь парадные лозунги той эпохи: «Хлопок – белое золото!», «Больше хлопка – богаче страна!». Но кто задумывался о цене, заплаченной за этот советский символ достатка? Кто пытался проникнуть за кулисы триумфальных реляций, чтобы увидеть истинное лицо хлопковой страды?
Я, свидетель и участник тех событий, хочу рассказать о подлинной жизни хлопкоробов. Сорвать завесу с того, что тщательно скрывалось за фасадом помпезных лозунгов.
Все, о чем пойдет речь, – не вымысел. Мои герои – реальные люди, лишь с измененными именами. Я стремился показать читателю неприглядную правду о производстве хлопка для советской державы. Поведать о тех тяготах и лишениях, что выпали на долю студентов, согнанных на уборку «белого золота». Рассказать об их отчаянных попытках изменить несправедливость, отстоять человеческое достоинство в нечеловеческих условиях. И о том, на какой риск они шли, чтобы выжить в той беспросветной реальности.
Когда я поделился с одним знакомым своим замыслом написать книгу о студенческой «хлопковой эпопее», он скептически усмехнулся:
«Да что там описывать? Разве что бытовые неудобства…»
Надеюсь, мне удалось рассказать не только об этом.
Тем, кто сам прошел через горнило хлопковой страды в студенческие годы, я уверен, будет увлекательно снова пережить те незабываемые моменты из юности, когда солнце грело особенно ярко.
Глава 1. Отправка на сельскохозяйственные работы
Сентябрьское утро, закутавшее Ташкент начала восьмидесятых в пелену облаков, уже пробудило город к жизни. Трамвай номер двадцать пять, словно старый, потрепанный жизнью корабль, медленно покачивался на рельсах, прокладывая себе путь сквозь сонную тишину. Его колеса, то глухо вздыхая на поворотах, то убаюкивающе стуча, задавали свой монотонный ритм, словно пытаясь настроить на него души пассажиров. Из Юнус-Абада, словно из дальней гавани, он двигался в сердце города, увозя туда с собой клубок мыслей, забот и надежд своих пассажиров.
Внутри трамвая царила тишина – не давящая, а обволакивающая, словно старое одеяло. Ее изредка нарушали шелест газет, сдержанное покашливание или приглушенный шепот семейной пары, обсуждающей планы на неделю. Люди в будничной, неприметной одежде казались пленниками собственных дум и тихой отрешенности.
Прильнув к стеклу, они ловили в мелькании улиц и домов ускользающие знаки, словно пытаясь прочесть в них тайные письмена судьбы. Кто-то, закрыв глаза, на мгновение проваливался в зыбкую дрему. Некоторые украдкой посматривали на часы, опасаясь опоздать на работу. Для них время стало самым ценным ресурсом.
Но трамвай неумолимо продолжал свой путь, словно связывая своих пассажиров невидимой нитью общей судьбы, делая их частью чего-то большего, чем просто отдельные, обособленные жизни.
В этом трамвае, на этом маршруте, всегда рождалась атмосфера особого тепла, когда за рулем был Карим. Его широкая, обезоруживающая улыбка, добрые, лучистые глаза и мягкий, ласкающий слух акцент сразу расположили к себе сердца и симпатии пассажиров. И дело было не только во внешности – его истинный дар заключался в умении превращать каждый рейс в незабываемое представление.

Стоило дверям трамвая закрыться, как салон наполнялся его заразительным, бодрым голосом:
– Салам, товарищи! Водитель Карим оченно большая радость говорить вам – здравствуй! Ташкентское время сейчаса около… вот-вот восемь часа утра. Сегодня я хотеть поднять ваша настроения! Погода днем будет савсема другой. Не нада бояться утро туман, он скора уходить, иншалла!
В этот момент даже самые невыспавшиеся и угрюмые пассажиры не могли сдержать улыбки, словно утреннее солнце пробилось сквозь серые тучи. Все жаждали продолжения этого маленького чуда.
– Другой новость будет сделать все улыбка, – громко продолжал Карим. – Я обещай солнце и теплый пагода. Карим никогда не обманывать!
И пусть его прогнозы не всегда совпадали с реальностью метеорологов, это никого не смущало. Пассажиры знали: даже если за окном бушует ливень, день начнется с солнечного тепла Карима.
Каждый рейс он щедро наполнял историями, искусно переплетая вымысел и правду. Даже о дорожных пробках он рассказывал так, что они превращались в захватывающую восточную сказку.
А еще он пел. Чаще всего – узбекские народные песни, мелодии, сотканные из воспоминаний детства. Однажды женщина на заднем сиденье вдруг заплакала. На вопросительный взгляд соседки она прошептала:
– Эту песню пел мой дедушка… Я не слышала ее уже тридцать лет…
В его трамвае витала атмосфера сердечного тепла и искренней доброты. Люди забывали о повседневной суете, обменивались улыбками и начинали день с легким сердцем. Порой тихий смех перерастал в дружный хохот, объединяя случайных попутчиков.
Карим был настоящим артистом жизни, щедро дарящим радость простым людям. Каждый пассажир предвкушал его рейс, чтобы хоть ненадолго погрузиться в мир его искрометного юмора и безграничной доброты.
Карима любили все. Он делал нечто большее, чем просто выполнял свою работу. Своей душевной теплотой и неподдельной искренностью он напоминал людям, что жизнь – это не только бесконечная гонка за успехом, но и радость, спрятанная в самых простых вещах.
И действительно, в мире, полном стрессов и тревог, Карим и его трамвай становились маленьким оазисом тепла и душевного покоя. Люди, выходя из его трамвая, приближались не только к своим делам, но и друг к другу, объединенные общей радостью и верой в добро.
Это был не просто транспорт, а передвижной островок веселья, где пассажиры, зараженные неугасающим оптимизмом водителя, сходили на берег реальности с улыбкой, а порой и с искренним смехом, унося с собой частичку его светлой энергии.
Рассветное солнце только коснулось крыш Ташкента, а трамвай, ведомый добродушным и жизнерадостным Каримом, уже был набит людьми. На задней площадке, словно три тени, держались особняком трое юношей. Они тоже не могли устоять, чтобы не улыбаться искрометным шуткам, которыми Карим щедро одаривал пассажиров.
Одетые небогато, но опрятно, в видавшие виды куртки и грубые кирзовые сапоги, они выделялись из толпы. Рядом на полу громоздились объемистые тюки и тяжелые сумки, набитые чем-то до отказа. Неискушенный путник, бросив на них взгляд, мог бы принять их за неприкаянных бездомных скитальцев.
Однако ташкентцы, привыкшие к подобным осенним приметам, легко распознавали в них студентов, которые отправлялись на хлопковую кампанию. Это была священная обязанность каждого молодого патриота. В их глазах читалось понимание и доброе отношение. Многие из пассажиров сами когда-то прошли через это горнило, зная не понаслышке о тяготах и скромных радостях хлопкового поля.
– Ну и подфартило же нам с сигаретами в этом году! – восторженно воскликнул Жора, обращаясь к Антону и Денису.
– Это точно, халява нежданная! – поддержал Антон. – Если бы не отправили нас на табачку, пришлось бы кровные тратить.
Стоящая рядом девушка, с милой строгостью в глазах, не удержалась от замечания:
– Минздрав предупреждает: курение опасно для вашего здоровья.
Всего несколько дней назад институтское начальство отправило их, группу студентов, на уборку строительного мусора в новом цеху Ташкентской табачной фабрики имени Джахон Абидовой. После завершения работ, на пути к проходной, их взору открылась гора табака, прикрытая навесом. Там были изрядно помятые сигареты, но попадались и целые. Девчонки и некурящие ребята, спокойно пройдя мимо этого «сокровища», поспешили домой. А вот заядлые курильщики остались на «золотой прииск». Они тщательно перебирали сигареты, выискивая заветные «Интер», «Ту-134» и прочие престижные марки.
Жора, Антон и Денис, истинные гурманы табачного дыма, не могли упустить такой шанс. Час, проведенный на свежем воздухе, не только оздоровил их, но и обеспечил запасом курева на месяца вперед. Они позже на хлопке щедро делились своим богатством с товарищами, которые тоже не отказывались от бесплатной сигаретки.
Эта история быстро стала популярной среди студентов и превратилась в легенду, подтверждая старую истину: удача улыбается тем, кто готов к неожиданным сюрпризам.
– Как же глупо мы тогда перебирали эти сигареты, выискивая лучшие сорта! – с легкой досадой произнес Жора. – Если бы выбрали сигареты всех марок, то успели бы больше набрать курева.
– И хорошо еще, что работники с фабрики, проходившие мимо, сжалились над нами и посоветовали не мучиться, а брать любые сигареты, мол, все из одного табака сделаны. Неужели это правда? – с сомнением протянул Денис.
Тоша, как всегда невозмутимый, лишь пожал плечами.
– Конечно, правда! Это же Узбекистан! – убежденно заявил он.
Антон Абакумов, самый старший из троицы неразлучных друзей, пользовался среди студентов некоторым авторитетом, закаленным армейской службой. Подтянутый, жилистый, с серьезными чертами лица и прямыми русыми волосами, он всегда держался сдержанно и уверенно.
Родился Антон на берегу ласкового Каспия, в тихом городке, где терпкий аромат нефти причудливо сплетался со свежим морским бризом. С детства зачарованный, он наблюдал за грациозными теплоходами и неповоротливыми танкерами, скользящими по лазурной глади. После школы поступил на вечернее отделение нефтехимического института, не желая покидать родные пенаты. Днем, постигая азы профессии, он трудился на нефтеперерабатывающем заводе, набираясь практического опыта.
Затем грянула армия. Два года в Волгограде, в старинных «Красных казармах», недалеко от Мамаева кургана, стали для Антона настоящим испытанием воли и духа. Монументальная Родина-мать, словно живая, день и ночь взирала на него, вселяя в душу патриотизм. Армейская муштра, строгий распорядок, преодоление физических и психологических преград – все это ковало его характер, делая сильнее и выносливее.
После демобилизации парень вернулся на родной завод, к привычной работе. Но однажды, оказавшись в зоне повышенной концентрации газов, он внезапно почувствовал удушающую слабость и потерял сознание. Лишь чудом, благодаря своевременной помощи, избежал трагедии.
Этот случай стал для него серьезным предупреждением. Он понял, что работа на заводе – это постоянный риск здоровью, а может даже и игра со смертью. Возможно, сегодня его спасло бесплатное молоко, выдаваемое за вредность производства. Но кто даст гарантию, что так будет всегда?
Вернувшись домой, Антон поделился своими опасениями с матерью и старшей сестрой. После долгого совещания они пришли к единодушному выводу: ему необходимо сменить профессию, найти занятие, которое не будет угрожать его здоровью. И выбор пал на институт связи в далеком Ташкенте.
Решив окончательно для себя вопрос, Антон подал документы и успешно поступил на очное отделение. Так начался новый этап в его жизни, полный надежд и возможностей. Он с головой окунулся в захватывающий мир современных технологий связи, впитывая знания, которые, как он верил, помогут ему найти интересную, а главное безопасную работу.
Денис Богатырев появился на свет в том же прибрежном городке, где и Антон. Но судьба сложилась иначе: миновала его чаша суровой солдатской жизни, возможно, оттого потом он долго грезил офицерскими погонами.
После школы, освоив водительское ремесло в ДОСААФ, год крутил баранку грузовика с кунгом при местной санэпидемстанции, исполняя свой долг с усердием и прилежанием.
Внешне – ростом был, как и Антон, но крепче сложен, более мускулистый. Вороные пряди волос окаймляли лицо, а аккуратные усики того же цвета добавляли ему солидности. В характере – невозмутимость и спокойствие, во взгляде – серьезность и рассудительность, говорящие о внутренней силе.
В общении держался уверенно и достойно, вызывая невольное уважение. Каждое слово – взвешенно, каждый поступок – обдуман. И хотя жизнь не усыпала его путь розами, Денис сохранял оптимизм и непоколебимую веру в светлое будущее.
Георгий Боровой, приземистый крепыш с лукавой искрой в глазах, обладал невероятным магнетическим обаянием, перед которым отступали любые предубеждения. Он умел, как никто другой, смаковать простые житейские радости, заражая окружающих своим неподдельным оптимизмом. Из троих друзей он был самым общительным и жизнерадостным. Его заразительный смех и добродушный нрав делали его душой компании. Однако за этой открытостью скрывалась ранимость. Парень очень ценил мнение окружающих о себе, и малейшая критика могла ранить его до глубины души.
Широкое, открытое лицо обрамляла копна густых каштановых волос, непокорные волны которых выдавали в нем неуемного жизнелюба. Жорик, как любовно звали его друзья, был сыном степей Северного Казахстана. После школы, по направлению родного совхоза, он отправился грызть гранит электротехники в институте связи. Истинной его страстью было радиолюбительство – он готов был раствориться в облаке паяльного дыма, часами колдуя над схемами и деталями, превращая скромную комнату в алхимическую лабораторию, где из хаоса рождались послушные радиоприборы.
Трое молодых однокурсников нашли приют в юнусабадской квартире тети Анны, вдовы, чье сердце хранило незаживающую рану. Ее мир рухнул в тот злополучный день, когда неизвестный автомобиль оборвал жизнь ее мужа, прапорщика, прямо на глазах у их маленького сына. С тех пор тень трагедии окутала их дом, погрузив в беспросветную печаль.
Чтобы хоть как-то рассеять сгустившийся мрак, Анна решилась сдать комнату троим студентам. Просторная четырехкомнатная квартира позволяла ей это, не нарушая привычного уклада жизни.
Студенты, чуткие к горю хозяйки, старались быть аккуратными и уважительными по отношению к ней. Они понимали, что в душе Анны бушует неутихающая тоска, и не хотели тревожить ее покой лишними заботами.
Вечерами, в тихом свете настольной лампы, они собирались в гостиной вместе с Анной и ее сыном. Смотрели телевизор, делились новостями, стараясь согреть этот дом теплом дружеского общения. Их присутствие, словно робкий луч солнца, постепенно проникало сквозь завесу скорби, возвращая краски жизни в этот дом.
Студенты, своей ненавязчивой заботой и искренним участием, помогли Анне почувствовать себя менее одинокой в этом мире. А ее сын, видя их добрые улыбки и искренний интерес, снова начал робко улыбаться, словно подснежник, пробивающийся сквозь снег.
Время неумолимо шло вперед, постепенно залечивая рану и принося с собой слабые проблески надежды. Анна находила в себе силы работать и растить сына, а студенты стали для нее настоящей семьей, опорой в трудную минуту. Они научили ее вновь радоваться простым вещам, ценить каждое мгновение и верить в то, что впереди еще будут светлые дни.
Между собой ребята жили душа в душу. Утром до занятий в институте и днем после них они утоляли голод в студенческой столовой, а вечером вместе готовили ужин на кухне. У них была общая касса – неиссякаемый источник, куда каждый вносил по десять рублей. И как только казна пустела, они тут же пополняли ее той же суммой, чтобы вновь использовать ее для общих нужд.
Сейчас, в трамвае, ребята казались румяными и округлившимися, словно лето щедро одарило их пухлыми щеками и гладкими боками. Вернувшись из родительских гнезд, где их баловали заботливые мамы, они несли на себе отпечаток домашних пирогов и разносолов. Но эта приятная полнота, как первый иней, обещала быстро растаять под лучами осеннего солнца.
Впереди их ждала хлопковая страда, любовно прозванная всеми студентами «хлопком», где нелегкая работа быстро сжигала накопленные за время каникул калории.
Тяжкий труд закалял их тела и дух. Вместе, с шутками и смехом, они превращали серые будни в увлекательные приключения.
– Знаешь, Антон, – задумчиво протянул Денис, – мы с тобой, кажется, обрели талант парикмахеров-самоучек. Подстригли друг друга, как будто вышли из-под руки одного мастера! Правда, немного коротковато, но зато до конца «хлопка» не успеем щегольнуть шевелюрой а-ля «африканский лев».
– Точно подмечено, – ответил товарищ, нежно поглаживая свою аскетичную прическу.
Затем Антон внимательно посмотрел на Дениса и произнес:
– Еще раз прошу тебя, Дениска, не ввязывайся в авантюры с «летучими голландцами», как в прошлом году. Как тебя угораздило впутаться в эту историю?
Воспоминания о «летучих голландцах» отзывались неприятным холодком в душе, но избежать их было невозможно. Эхо прошлогодних событий еще бродило в памяти.
Год назад им не повезло с бригадиром – преподавателем, в котором до времени дремал дух авантюризма. Он сколотил из шести крепких парней команду, прозванную «летучими голландцами». Ночами они рыскали в поисках бесхозных хирманов – временного складирования большой кучи хлопка на земле.
Часто случалось, что другие бригады, будь то студенты, колхозники или даже школьники, из-за нехватки тележек не успевали увезти весь собранный урожай на заготпункт, оставляя часть хлопка на проселочной дороге возле поля. Наутро за ним приезжал тракторист с пустыми тележками, в которые собравшая этот хлопок бригада и загружала его.
Но ночью этот бесхозный хлопок становился добычей тех самых «летучих голландцев». За несколько рейсов они перетаскивали «белое золото», пряча его в укромное место, а утром, как ни в чем не бывало, загружали в свои тележки. Днем летуны отсыпались в кошаре, в так называемом студенческом бараке. Таким образом, каждый из них выдавал бригаде показатели, недостижимые для обычных смертных. Затем вес украденного хлопка делился поровну на всех членов бригады и прибавлялся к реально собранному. Это позволяло выводить всю бригаду на первые места в социалистическом соревновании. Бригадиру – хвала и почет.
Такое ночное воровство хлопка в Узбекистане прозвали «бомбежкой».
Но сколько веревочке ни виться… Однажды ночью воришки попали в засаду и чудом унесли ноги, но Денис, как назло, засветил свое лицо. Потом ему пришлось скрываться от бдительных глаз правоохранительных органов и свидетелей, видевших его физиономию.
– Да ладно тебе вспоминать! – отмахнулся Денис. – Все же обошлось тогда.
Разговор трех товарищей прервался, когда трамвай, звякнув колокольчиком, подкатил к знакомой остановке возле родного института. Сердобольные попутчики помогли им выгрузить вещи, и ребята, навьюченные тюками словно бурлаки, неспешно двинулись к веренице автобусов, до которых оставалось пройти добрую сотню, другую шагов.
– Ну вот, уже втягиваемся в лямку! На хлопке тюки куда увесистее будут. Лиха беда начало, как говорится! То ли еще будет! – Жорик попытался заразить друзей своим притворным оптимизмом. – Вперед, с песней, навстречу трудовым свершениям!
– Да уж, точно! На хлопке будет похлеще! И не только это! Как вспомнишь прошлые сезоны, так мороз по коже, – отозвался Антон, не разделяя его энтузиазма. – С такими тяжестями и спину сорвать недолго…
И вот она – длинная колонна новеньких автобусов, выстроившихся в ряд, словно на парадном плацу. Блеск их лакированных боков слепил глаза в лучах утреннего солнца, превращая будничный день в феерию. В воздухе трепетало предвкушение дальней дороги, а сердца юных пассажиров отбивали нетерпеливую дробь навстречу грядущим приключениям. Оставалось лишь отыскать свой, заветный автобус, закрепленный за родной группой.
Вдруг, сквозь гомон толпы, прорезался зычный голос Абдуллина, неутомимого генератора оптимизма:
– Дружно ударим коробочкой хлопка по мировому империализму! Связистом можешь и не быть, но хлопкоробом быть обязан!
Его искрометный спич, пропитанный заразительной энергией, мгновенно подхватила развеселившаяся толпа.
«Значит, где-то там наша группа, героически штурмующая автобус своими пожитками,» – подумали друзья.
Несколько десятков шагов – и вот она, долгожданная встреча! Первые ласточки уже успели забросить свои тюки в утробу автобуса, формируя внушительные баррикады на задних сиденьях и полу.
С прибытием новых студентов росла и гора багажа, грозящая достать до самого потолка. Никто не приказывал складывать вещи именно так – то была неписаная традиция, передаваемая из поколения в поколение, от старшекурсников к следующему поколению студентов.
Впереди ждала долгая дорога до джизакских степей, и многие находили на этой мягкой горе укромное местечко для полуденной дремы, превращая утомительный путь в подобие комфортного путешествия.
В воздухе витал пьянящий аромат свободы, энтузиазма и беззаботного веселья. Смех, шутки и байки прошлых лет звенели в унисон с гитарными переборами, доносившимися почти из каждого автобуса.
– Ой, как же вы оба забавно выглядите! Одинаковые стрижки, как у близнецов! В одном барбершопе побывали? – лукаво поинтересовалась Ира, машинально потирая ладони о бедра. Эта привычка была ее визитной карточкой, маленькой причудой, добавлявшей колорита в общую картину.
– Точно, как братья-акробаты! – подхватила Алла.
– Нет, – многозначительно переглянувшись с Денисом, ответил Антон, – мастера у нас были разные.

– Да они сами себя стригут, – с улыбкой разоблачила их Лариса. – Разве не видно?
Антон не мог отвести взгляда от Ларисы, восхищаясь ее легким нравом и лучезарной красотой. Он ловил на себе ее взгляд, полный легкой иронии, и не понимал, почему не находит в себе смелости признаться ей в своих чувствах.
Возможно, дело было в том, что она сама не давала ему ни малейшего повода для ухаживания. А Антон никогда не умел и не любил навязываться.
Ира и Алла – сестры-двойняшки, но словно сотканные из разных нитей! Ни ростом, ни характером – два абсолютно разных мира. Даже память их плясала под свою мелодию. Ира хватала знания на лету, словно бабочка нектар, но стоило экзамену уйти в прошлое, как все выветривалось, словно утренний туман. У Аллы же информация усваивалась с трудом, прорастала сквозь тернии, но уж если что-то западало в память, то держалось там мертвой хваткой, словно корни старого дуба.
Антон с теплотой вспоминал тот семестр, когда судьба свела его с Ирой и Аллой в одну бригаду на получение допуска, выполнение и сдачу лабораторных работ по сопротивлению материалов. Их преподавательница, женщина строгая и непреклонная, требовала от студентов не зубрежки, а глубинного понимания предмета, прежде чем допустить до святая святых – практических занятий.
Втроем, за столом, усыпанным методичками, они корпели над каждой строчкой, пытаясь впитать в себя суть сопромата. Антон и Алла, скрупулезные и внимательные, препарировали текст, засыпали друг друга вопросами, перепроверяли формулы, словно алхимики, выверяющие рецепт философского камня. Ирина же казалась витающей в облаках, вечно отвлекалась на перешептывания с другими бригадами, то и дело срывалась с места, чтобы обменяться парой фраз с кем-нибудь из студентов.
Когда над ними нависла тень преподавательницы, готовой обрушить шквал вопросов, Антон и Алла почувствовали, как подступает легкая паника. Знали, читали, но слова ускользали, формулировки рассыпались в прах. И тут Ирина, словно Феникс, восстала из пепла рассеянности и, к изумлению всех, отвечала четко, уверенно, демонстрируя понимание материала.
Преподавательница была ошеломлена. Антон, потрясенный метаморфозой, не удержался от вопроса:
– Как ты все запомнила, если ни секунды не сидела спокойно?
Ирина лишь пожала плечами, словно не понимая его изумления:
– Ну, вы же читали! Я просто слушала.
Антон вдруг понял, что мозг Иры работает по каким-то неведомым законам. Он, словно магнитофонная лента, исправно записывал информацию, не утруждая себя анализом и осмыслением. Он восхищался этой феноменальной способностью, но в то же время, по опыту общения с ней, он прекрасно знал, что завтра она ничего не вспомнит из пройденного сегодня учебного материала.
Несмотря на все различия, сестры были неразлучны. Они поддерживали друг друга во всем, делили радости и печали, как два крыла одной птицы. Даже редкие ссоры не оставляли глубоких ран, быстро заживая под целительным бальзамом родственной любви. Ведь родственные души всегда найдут общий язык, даже если говорят на разных диалектах.
У колонны автобусов витала густая атмосфера прощания. Столичные студенты, окруженные родителями, внимали последним наставлениям, произносимым с тревогой и любовью:
– Это не ешь! А это – обязательно! Это надень! Жарко станет – сними! Ночью далеко не ходи! Спи хорошо! – и прочее, и прочее.
Эти слова, наполненные заботой и нежностью, смешивались с какофонией звуков: гулом толпы, объявлениями по громкой связи. И вот, наконец, в рупор прозвучала долгожданная команда:
– Всем по местам! Колонна отправляется!
Команда прозвучала как нельзя вовремя – начал накрапывать мелкий, противный дождик. Благодаря внушительному количеству автобусов, места хватило всем. И вот, словно гигантская гусеница, вереница транспорта медленно поползла вперед.
Провожающие и отъезжающие махали руками, что-то кричали, захлебываясь от нахлынувших эмоций. Возбуждение достигло апогея. Даже когда колонна прилично отъехала от города, чувства продолжали бушевать, словно морские волны. Вскоре от этих волн осталась только пена, а потом образовалась водная гладь.
«До скорой встречи, родной и прекрасный Ташкент! До скорой встречи! Жди нас, мы скоро вернемся!» – думал каждый студент, глядя на ускользающий силуэт любимого города.
Однако эта встреча могла и не состояться так скоро, как хотелось. Все зависело от выполнения плана Узбекистаном по сбору хлопка-сырца, спущенного сверху государством в размере шести миллионов тонн. План, как потом стало известно, завышенный на целый миллион, оказался непосильной ношей. Но тогда простой народ об этом еще не знал. Он свято верил в непогрешимость партии и правительства, в светлое будущее, которое вот-вот наступит.
Вскоре колонна миновала Юнус-Абад. Трое друзей на прощание помахали своему дому, точнее, той съемной квартире, где они делили на троих кров и студенческие радости. Далее вереница автобусов вырвалась на бетонку Джизакского тракта. Сколько же хлопка расстилалось по обе стороны дороги! Бескрайние хлопковые поля, уходящие за горизонт. Пока еще глаз радовался этой белой красоте, не подозревая о том, какой титанический труд ждет народ Узбекистана на этих полях. Молодым студентам казалось, что им все по плечу, что они способны свернуть горы. Они еще не знали, какие потрясения, помимо сбора хлопка, уготованы им судьбой. Какие события развернутся на их глазах. А ждало их то, ради чего все это и пишется, дорогой читатель…
Глава 2. Приезд на место
Много раз доводилось слышать вздохи о злоключениях российских студентов, отправленных на сельхозработы в колхозы. Ах, эти «ужасы» – размещение в домах колхозников, бараках, спортзалах, где приходилось ютиться на старых панцирных койках! Бедненькие! То ли дело – сбор хлопка в Узбекистане. Вот где истинный «курорт». О нем, об этом «курортном» жилье, и пойдет мой рассказ в этой главе.
Студенты в автобусах неслись по раскаленной трассе, оглушая окрестности ритмами музыки и взрывами песен. Летние каникулы еще дышали свежестью и бодростью в их сердцах, а предстоящая хлопковая страда манила духом авантюры. Впереди ждало испытание, обещавшее стать незабываемым.
Перед заходом солнца автобусы, подобно стаям перелетных птиц, разлетались в разные стороны. Их путь лежал к далеким студенческим кошарам, разбросанным по бескрайним хлопковым просторам.
Представьте, если бы все эти тысячи юных тружеников разместили в одном месте! Логистический кошмар! Ежедневная доставка бригад на поля превратилась бы в цирковое представление с участием несметного количества автобусов. Экономически нецелесообразно. Практически – нереально.
Поэтому мудрые головы давно придумали решение: расселять студентов по кошарам. Так и хлопок собирать сподручнее, и бригадам удобнее.
Обычно на бригаду выделяли кошару – приземистое одноэтажное строение с земляным полом и просторным помещением. Зимой здесь находили приют овцы, а в сезон сбора хлопка – студенты.
Перед прибытием «десанта» колхозные умельцы сооружали временные двухэтажные деревянные настилы – те самые «нары». Вот он, апофеоз «комфорта». Ни деревенских домов, ни благоустроенных бараков, ни спортзалов с кроватями. Только спартанские условия, напоминающие скорее пересыльную тюрьму где-нибудь в колымской глуши с добавлением «аромата» отходов животных.
В этой тесной кошаре, под общей крышей, бурлила жизнь. Здесь царила атмосфера безудержной юности. После изнурительного дня на хлопковых полях звучали песни, раздавался стук карт, велись нескончаемые разговоры о будущем и прошлом.
Условия были, мягко говоря, далеки от идеала: Удобства на улице, умывальники тоже, вода в них ледяная и никакого намека на душ. Но эти лишения сплачивали студентов. Они учились понимать друг друга, ценить простые радости, а по вечерам, в тишине, с тоской вспоминали о доме, о близких и о теплых постелях.
Бригада, обычно состоявшая из сотни студентов, включала в себя четыре-шесть студенческих групп, в зависимости от размеров кошары. Формировалось и такое же количество автобусов, отправляющихся в один пункт назначения. Первокурсники еще робели, а старшекурсники института, искушенные опытом прошлых хлопковых кампаний, знали все тонкости и нюансы разъезда колонны.
Какого же было всеобщее удивление, когда сегодня вереница порядка двадцати автобусов, словно стальная гусеница, заползла в просторный двор, обнесенный бетонным забором, и остановилась у одной-единственной, но огромной кошары. Раздалась команда:
– На выход!
– Что за невидаль? – воскликнул Антон. – Отродясь столько автобусов в одно место не пригоняли.
– Может, это перевалочный пункт? – предположил кто-то из однокурсников. – Одна бригада останется, а остальные отдохнут, оправятся и дальше поедут, по своим кошарам.
В воздухе повисло легкое, но отчетливое недоумение. Студенты, застывшие в дверях автобусов, обменивались взглядами и шепотом, пытаясь разгадать ребус происходящего. Двадцать автобусов – это было беспрецедентно! В каждом – молодость, энтузиазм, жажда трудовых свершений. Но то, что маячило впереди, явно выходило за рамки привычного сценария.
– А чего расселись? Вещи выгружать будем или как? Церемоний особых ждете? – прогремел возмущенный голос Прокопченко, преподавателя высшей математики, временно исполняющего обязанности нашего бригадира на период хлопковой кампании.
Из-за своей фамилии он носил прозвище «Копченый», а за интеллигентную внешность и манеры – «Пьеро». Невысокий, всегда аккуратный, с характерным жестом растопыренных кистей рук при ходьбе, он казался комичным персонажем, но в дальнейшей истории нашей бригады ему было суждено сыграть отнюдь не второстепенную роль.