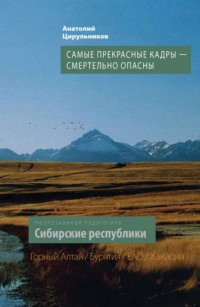Kitobni o'qish: «Неопознанная педагогика. Сибирские республики. Самые прекрасные кадры – смертельно опасны. Республика Алтай. Республика Бурятия. Республика Хакасия. ЕАО»
* * *
© Цирульников А.М., 2025
© ООО «Образовательные проекты», 2025
* * *
«Я хочу понять эту жизнь, понять, кто я, зачем живу, в чем заключается человеческое совершенство. Каким мне лучше быть?
Таким, как эти люди, возвращающиеся нетвёрдой походкой с работы? Таким как отец? Таким как Сократ? Не знаю… Но то, что я могу думать и выбирать – это уже хорошо. „Ум – единственная надежда в деле улучшения человечества“».
Из ученического сочинения

Поиски образования в горных долинах
Предисловие
Герои этой книги несут в себе некую загадку. Одни из них на первый взгляд, не имеют прямого отношения к педагогике. Бывший лётчик, создавший народную библиотеку, старейшина хакасского рода, заведующая музеем у древних пещер…
Не школа. Не система дополнительного образования. А что же такое? Почему рядом крутятся дети? И что они вместе со взрослыми делают?
Другие герои книги – вроде бы при учительских и директорских должностях, но создают нечто, никакими должностными инструкциями непредусмотренное.
Вот уроки театра в бурятском Барагхане, где учат детей: «Пусть у тебя рваная рубашка, а ты веди себя так, словно на тебе королевская мантия». Вот сделанный в школе свой учебник бурятского языка, где на первой странице не доярка и трактор, а… Ворота в рай. Рядом (по сибирским меркам) в Тарбагатае прорастает «Школа народного календаря» – одна из тех реальных моделей русской национальной школы, которая не выдумана в учёных кабинетах, а возникла из живых усилий и размышлений людей.
Сначала я сам думал, что описываю артефакты. Знаете, попадаются такие чудики, про которых говорят – не от мира сего. Но чем дольше живёшь в «сём мире», тем больше задумываешься о несоответствии между замыслом и тем, что получается. Особенно явно видно это в России, где всё ещё нет гражданского общества, а государство в общем осталось тем же самым. Лишняя сотня или тысяча жизней граждан мало что значит в сравнении с государственными интересами. А уж отдельная, единственная человеческая жизнь – бесконечно малая величина, которой можно пренебречь. Когда такое отношение становится обыденным, то и модернизация образования скользит мимо человека и пренебрегает им. Что значит какая-то тысяча деревень, которые умрут в ходе реструктуризации школы? Зато в единственной выжившей на районе школе будет много компьютеров…
У людей появляется интерес к хорошему образованию, во всяком случае, диплому. Правда, как у меня как историка это вызывает беспокойство, известно, что всплеск интереса к образованию происходит у нас накануне социальных катаклизмов. Но даже если революции не будет, что изменится? Не пропадёт ли общественный интерес к образованию, как не раз бывало? Ведь система та же: экономика, право, культура не сцеплены, и никакой связи между уровнем образованности человека и жизненным благополучием, не говоря уже о безопасности, не наблюдается…
А между тем решение проблем можно поискать не только в заграничных рецептах. Но и в тех долинах между горами, где живут герои этой книги. Люди, которые скооперировались, как могли, и строят на фоне ураганов и землетрясений, какую-то свою жизнь. И она не происходит без детей, и вот в этих-то самодеятельных обстоятельствах и возникает живая, удивительная педагогика, не всегда сразу опознаваемая. Та самая, в которой нельзя пренебрегать человеком, маленьким и взрослым, и в котором школа, образование встроены как-то по-своему в экономику и историю, в государственное устройство и гражданское общество.
В Горном Алтае я услышал о молодом человеке, который ездит за семь километров на велосипеде в деревню и учит детей рисованию. Решил заехать посмотреть на энтузиаста. Оказалось, он не один. Рашид и Лена, Юра и Оля – несколько молодых пар живут чуть поодаль от села Нижний Уймон, на хуторе. Они не беженцы. Приехали из Новосибирска после окончания университета. Рашид Заунуитдинов – даже двух: технического и педагогического. Разработал свой собственный курс математики для начальной школы с комплектом кубиков, вырезанных из кедра: всего кубиков 103 и на каждом выжжена цифра – можно выкладывать всякие закономерности. Ещё есть свой курс по изобразительному искусству, а по русскому языку хотели бы использовать Миорадзе, а в целом им близки идеи Амонашвили, «школы жизни». У этих молодых людей, поселившихся на хуторе, есть опыт скаутства: восемь лет возили свой скаутский класс в горные края. Алтай они выбрали во время этих походов и объяснили мне, почему. Чистый воздух, богатство зрительного ряда, способствующего развитию, и доступность мест – на их взгляд, то, что надо для создания школы, которую хотят начать на новом месте.
Пока школы им никто не даёт, и они делают то, что могут: Оля ведёт кружок, Лена тренируется на детях знакомых, а Рашид ездит в другую деревню на велосипеде под дождем, на лыжах под снегопадом – учить детей рисованию…
Пока я с этими ребятами беседовал на ночь глядя, завроно Надежда Степановна сидела в машине и ждала. Мой рассказ об этих молодых людях, желающих построить свою начальную школу, не только не вызвал у нее энтузиазма, но неожиданно вызвал обиду. «О наших вы ни о ком так не говорили», – обиделась Надежда Степановна, имея в виду местных педагогов.
«Да с чего вы взяли», – пробовал я её успокоить. «Нет, – ещё сильнее обижалась местный руководитель образования, – я смотрела, у вас глаза так не блестели. А кто они такие? – набросилась вдруг она на предмет моей симпатии. – Откуда они взялись? Учить нас приехали?»
Едва с милой Надеждой Степановной не поругались.
С другой стороны, а чего мы хотим: чтобы всё на блюдечке? Наверное, каждое следующее поколение должно само пройти нечто, что уже прошло предшествующее. У него должен быть свой ВНИК, своя авторская школа, свой август 1991-го.
…Я размышляю о своём поколении. «Одарённые дети», годы рождения 1946-1953-й. До нас было военное, а после 53-го – какое-то другое. А наших я называю «благополучные». У нас в общем-то было безоблачное детство, прекрасная школа. Можно сказать, победная. Мы зачаты с победой, она была в наших генах, необыкновенная уверенность, пожалуй, даже самоуверенность, что всё для нас и нет ничего невозможного. Как быстро мы росли и как рано достигали успеха. Становились кандидатами в мастера, кандидатами наук… и неожиданно останавливались. Мы – поколение вечных кандидатов (даже если доктора, даже если нечаянно президенты), как когда-то в ХIХ веке было поколение «вечных студентов». Мы так многое обещали, нам так многое было дано…
Почему всё-таки не осуществилось – ни у нас, ни у тех, кто был перед нами? Страна во многом выглядит сценарием неуспеха. Но каждое новое поколение, вырастая из отцовских штанишек, упрямо карабкается на гору. Или, может быть, не бывает потерянных поколений – в каждом есть, как сказал мне когда-то выдающийся дидакт И.Я. Лернер, умные и дураки, негодяи и порядочные люди – примерно в одном и том же соотношении…
На фоне сгущающихся сумерек мой вывод может показаться излишне оптимистичным. Но если детям не запудрят мозги, у них может получиться сделать свой шаг вверх… Возможно, это будут ученики тех ребят, с вершин Алтая…
То, о чём я писал в этой книге, собрано в ходе поездок начала 2000-х годов (за что автор искренне благодарен газете «Первое сентября», предоставившей в те годы возможность для педагогических путешествий). В «новейшей истории образования» меня интересовали не «негатив» и даже не проблемы, к которым можно добавить ещё одну, а способы решения хоть маленькой проблемы, опыт достойной человеческой жизни.
Анатолий Цирульников,
2001–2025

Книга первая
Алтай. Самые прекрасные кадры – смертельно опасны
Путешествия 2000–2001 годов
Глава 1
Планида Калошина

Народная библиотека Уймонской долины. Лётчик-библиотекарь Леонид Калошин со своими читателями
Собирать книги он начал ещё лётчиком в Аэрофлоте – летал всюду, денег было много, покупал. Друзья пользовались. И вечно на обрывках оставляли расписки. Вдруг пришла в голову мысль, не понятно откуда – надо оформить, чтобы была библиотека. Раз пришла мысль, два… «А если, – говорит он мне, – мысль приходит к вам не однажды, к ней надо прислушаться…» В рериховских местах. В Уймонской долине. Да, он тогда ещё летал. Был туман, Новосибирск закрыли. Сели в Барнауле. И он решился: пошёл в отдел кадров и спросил: вам не нужен в какой-нибудь маленький аэропорт в горах – сторож? На него посмотрели с недоумением – красивый мужчина, штурман, двадцать лет стажа, и говорят: сторожей хватает, а вот нужен диспетчер в Усть-Коксу.
Он уволился из Аэрофлота, ушёл на пенсию, и три года, пока аэропортик в Коксе не закрыли, работал диспетчером. Построил дом, зарегистрировал: «Народная библиотека Уймонской долины им. Е.И.Рерих».
После этого, говорит, ему сразу стало легче. Как после реинкарнации.
Тысячный читатель
«Мы переходим из одного мира в другой, почти такой же, и тут же забываем, откуда мы пришли; нам всё равно, куда нас ведут, нам важно только то, что происходит сию минуту. Ты представляешь, сколько жизней мы должны прожить, прежде чем у нас появится смутная догадка, что жизнь не исчерпывается едой, борьбой и властью в стае…»
Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Дом с застеклённой террасой – на окраине села, рядом лес и горы. Я был осенью, в золотую пору, прихватил немного дождя, а как тут зимой – могу лишь себе представить: по заметенным дорожкам, тропинкам идут читатели. В доме топится печка, тепло. Интерьер не деревенский: картины, скульптуры. Во всех комнатах книги. Сам библиотекарь спит на крылечке, у него там закуток два на четыре.
Став юридическим лицом, Леонид Калошин съездил в Москву, добрался до директора «Ленинки» и представился: я такой-то, из алтайских лесов, не поможете?
Его завели в катакомбы с бесконечными стеллажами, сказали: бери, сколько унесёшь. И он сидел днями и ночами, руки все чёрные, и выбирал – дореволюционные фолианты, «Война и мир» издательства Сытина, Брокгауз и Эфрон…
Второй была сельскохозяйственная библиотека, куда Калошин набегал даже дважды, и теперь местный агроном набирает у него целую коробку книг: животноводство, семеноводство, почвоведение…
Собрал двадцать пять тысяч томов.
В народной библиотеке Уймонской долины, когда я туда пришёл, дети за столом играли у горшка с цветами. «Этот тюльпан, – говорил им Калошин, – можете домой взять и посадить». – «А как за ним ухаживать?» – «Я тоже не знаю, – признавался Калошин, – вот весной посажу и посмотрю».
Заявлялись из ближних деревень, и из дальних, везде у Калошина обнаруживались читатели. Однажды пришёл тысячный, им оказалась учительница, и Калошин подарил ей антологию гуманной педагогики Амонашвили…
В основном в библиотеку записываются дети, но берут книги и для родителей. А некоторые сами приходят – с такими испитыми физиономиями, Калошин сначала давал книги с опаской, но они аккуратно возвращают. Приезжают на конях, телегах, берут книг помногу… И учителя тоже много заказывают, коробками книги уносят, и вот таким образом, замечает Калошин, педагогический процесс улучшается.
Число читателей сильно выросло, когда он завёз учебники. Из московского северо-западного округа привёз в Коксу два пятитонных контейнера – одиннадцать с половиной тысяч учебников. Из библиотеки Ушинского – тысячи списанных книг. Учителя говорят, что у Калошина теперь лучшая педагогическая библиотека в Горном Алтае.
То, что больше пяти экземпляров, Калошин другим библиотекам раздаёт. Будь у него автобус, мог бы все деревни объезжать и выдавать книги. А пока к нему приезжают библиотекари и набирают две кипы, одну для взрослых, другую для детей.
«Ты из Башталы?» – «Ага. У вас есть физика для седьмого класса?» – «Только что последнюю отдал. Где ты была раньше?» – «А биология?» – «Биология есть. Тебе серую?» – «Нет, жёлтую.» – «Жёлтую разобрали. Поздно ты, подружка, прибежала».
В первых числах сентября тут у него не продохнуть. Родители бедные, многие не получают зарплаты, не могут ребёнку купить учебник. И вот Калошин ездит и достаёт на весь район. А сам сидит, зима на носу, а у него дров нет.
Куплю всё
«Смысл жизни в том, чтобы достигнуть совершенства и рассказать об этом другим… Мы выбираем следующий мир в согласии с тем, чему мы научились в этом. Если мы не научились ничему, следующий мир окажется таким же, как этот, и нам придётся снова преодолевать те же преграды с теми же свинцовыми гирями на лапах»
Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Отношения между Калошиным и детьми похожи на те, которые описал другой лётчик, сделавший вынужденную посадку в пустыне Сахара. Он, как вы знаете, встретил там мальчика, угадавшего, что на рисунке не шляпа, а проглоченный удавом слон.
Дверь библиотеки открывается, мальчик спрашивает: «Рисунки принимаете?»
Когда у Калошина идёт конкурс рисунков, здесь все картинами облеплено. Рисуют на обоях, на склеенных листах заявок на гранты, на обороте стенного календаря. «Задумчивый житель саванны», «Кот-аристократ», или вот произведение, называется: «Чтобы мир был полон людей. Никто ни на кого не обижался». Подписано: К.Н., то есть, Казанцева Надя из шестого класса. «Она, – говорит Калошин, – уже как маститый художник подписывается – К.Н. А ещё есть М.О.»
Раз две девчушки копировали профиль, и у одной Пушкин очень хорошо получился, а у другой непохоже. Калошин хотел сказать, смотрит, а она подписывает: «Брат Пушкина».
Единственный, наверное, в мире такой рисунок.
Без призов никто не остаётся.
Дети – замечательные художники. И вообще – замечательные, если с ними заниматься. Один его знакомый ездит за семь километров на велосипеде в другую деревню, там с детьми рисованием занимается, и эти дети все первые премии у Калошина получают.
В очередной свой набег на Москву зашёл народный библиотекарь в Академию художеств – попросить книг. Вдруг видит, а навстречу идёт сам Церетели со свитой. Калошин к нему, как ко всем: не поможете? Церетели говорит: «Ну, иди к кабинету». Бросил царственный взгляд на детские рисунки, взял координаты, сказал, вот будет фонд… Но так и не помог.
– Ну, может, забыл, много нас таких, – сказал Калошин и усмехнулся.
«Отвлекусь, – говорит, от темы. – В подземном переходе, знаете, стоят люди, держат в руках объявления – „куплю золото“, „куплю меха“. А один хлыст у Киевского вокзала стоит с объявлением: „КУПЛЮ ВСЁ“. Я, – говорит Калошин, – шёл и очень долго смеялся…»
Как-то он приехал к Амонашвили на семинар, но опоздал, смотрел в зал через занавески. Полный зал молодых людей, и настолько, говорит, было приятно на них смотреть. Обычно – маска на лице учителя, а тут полный зал молодых светлых лиц. Радостно видеть, что не заглохло, несмотря ни на что…
– Я, – говорит Калошин, – был лётчиком, теперь библиотекарь, в педагогике ничего не понимаю – и то у меня столько задумок. Будь я министром или царём, все бы провёл через детей, начиная с садика. Что творится в стране – тысячи беспризорных. А умницы? Их тормозит общий уровень, а у умника информация идёт из космоса.
«Учёным бы все это обдумать, – говорит Калошин свои наивные вещи. – С чего начинается страна? С учителя, библиотекаря – эти сословия надо поднимать».
Читатели подрастают и среди них встречаются такие смышлёные. Один говорит: «Я эту библиотеку всю перечитал, и вашу перечитаю. Дядя Лёня, у вас лучшая библиотека…» Такой парнишка никогда не свихнётся. Книгу когда выбирает – такой у него взгляд серьёзный.
– Я, – говорит Калошин, – таким в детстве не был. А этот мальчик будет необычный. Их пятеро ребят ходит и бабушка. И какие-то все дети хорошие. Бывают такие семьи. Как подарок.
Самый драгоценный подарок достался Калошину вот какой: ходила к нему читательница-четвероклассница, красивая – сказка. Однажды пришла, топчется у стеллажей то там, то тут, не может выбрать. Ну, он подобрал ей хорошую книгу. Девчушка ушла, задумавшись. «А я провожал её взглядом, вот отсюда, где вы сидите, смотрю, она вышла из калитки, раскрыла книгу и поцеловала. Представляете? И пошла по заснеженной тропинке, читая».
– Вы, может быть, – говорит Калошин, – понимаете моё состояние… А её отец против того, чтобы она сюда ходила. Библиотека Уймонской долины, Рериха, а к рериховцам отношение разное. Слухи распространяют, залепухи, чем нелепее, тем, думают, больше поверят.
Раз приехала проверять одна из администрации, в чёрном кожаном плаще, пенсне – вылитый Берия. Ходила-ходила, изучала. Ну и что тут особенного, говорит, библиотека как библиотека. И тут же сама записалась и взяла книгу, «Предсказания Нострадамуса». В другой раз к Калошину нагрянули пожарники и закрыли из-за того, что нет схемы маршрута покидания помещения. А какой маршрут, если у него одна дверь?
Ну, ничего, потом снова открыли, и в библиотеку ещё четыреста человек записалось.
– Так вот, насчёт благодарности, та девчушка, что книжку поцеловала, её отец бьёт за то, что здесь бывает, и она ходит теперь редко, украдкой. Ещё красивей стала. Эта девчушка, – говорит Калошин, – такая для меня награда. А у неё подружки, одна печенье ему принесёт, другая – солёный огурец: «Дядя Лёня, покушайте…».