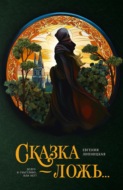Kitobni o'qish: «Вечный сон»
© Анастасия Вайолет, 2024
© kartondesu, иллюстрации, 2024
* * *

Пролог
1800 год, 20 апреля, 00:00
Море восстало против людей, и духи, прежде молчавшие, теперь кричат и стонут в ушах Анэ. Все, что она видит, – это застилающая глаза кровь вперемешку с морской водой, сквозь которую едва проступает дрожащий силуэт отца.
Медвежью кровь почти смыло с лица, и Анэ понимает, что ритуал сорван. Она смаргивает воду – фигура отца становится четче, его черная макушка едва выглядывает из белых сугробов и кажется такой беспомощной, что Анэ хочется то ли заплакать, то ли рассмеяться.
Он прикасался к тому, что скрыто от людей, и мог еще не очнуться.
Анэ переводит взгляд на свои руки. И на отца. И обратно на руки. Их она почти не видит – они размываются перед глазами, и все, что ей удается разглядеть, – это кровавые разводы на снегу, освещаемые полной луной.
Еще мгновение – и Анэ бежит к отцу сквозь тянущую боль в ногах, сквозь дрожь во всем теле. На щеках замерзают капли воды. Она сбрасывает капюшон и тут же воет от холода – но теперь видит отца все лучше и лучше, видит его руки, торчащие из сугроба, трясущуюся голову, которая постепенно поднимается из белизны…
– Стой на месте! – полностью высунувшись из снега, кричит он.
Взгляд у него дикий – выпученные глаза, покрытые инеем ресницы. Рот открыт то ли в страхе, то ли в попытке что-то сказать. Отец поворачивается – одна лишь его голова, которая трясется от холода, – и начинает петь на незнакомом языке. Анэ застывает на месте, ожидая команды.
Тишина. Темнота. Только море волнуется, выбрасывает на берег одинокие льдины. Воет морская чернота, шипит белая пена. Лунный свет падает на темные волосы отца. Кажется, что все погрузилось во тьму, и только фигура отца сияет, только в нем еще есть жизнь.
Он кричит. Волны сменяют друг друга, становятся все выше и выше.
Анэ не двигается. Часто моргает, чтобы видеть еще четче, убрать размытое дрожащее озеро перед глазами. Ждет. Отец встает из сугроба, разбрасывая руками снежные комья, – и в следующий миг застывает на месте. Волны с шумом разбиваются о каменный берег. Анэ продолжает смотреть на отца, ожидая хоть какого-то знака, взмаха руки, слова. Хоть чего-то, чтобы она понимала, что делать, – но фигура его неподвижна.
И когда поднимается большая, затмевающая небо волна, когда весь мир гаснет в морской пене, Анэ понимает, что в первый раз в жизни они не справились. Она силится представить отца – но представляет себе его бубен, большой, из волчьей кожи. Она пытается кричать – но вместо этого хрипит от боли.
Боль настигает ее очень быстро – в одно мгновение она представляет себе отцовский бубен, а затем весь мир накрывает темнота. Анэ больше не ощущает свое тело – видя, чувствуя перед собой мертвую злую силу, она сливается с мерцающей тьмой.
…Просыпается Анэ в пещере.
Темнота, которую откуда-то свысока рассеивает лунный свет. Вода лениво скатывается на камни, образуя маленькие блестящие озера. Повсюду мелькают стонущие тени.
Под их стон она и открывает глаза. Тут же встает – тяжелый влажный воздух замедляет, окутывает слабостью, и вот уже у Анэ снова подкашиваются ноги. Тени снуют рядом. Стоны их складываются в одно простое слово:помогите.
Вдалеке лежат тела животных – собаки, олени, медведи. Их серая шерсть окроплена черной кровью. Волоски на них медленно, словно нехотя шевелятся – и от этих маленьких движений на мертвых телах Анэ словно каменеет, застывает на месте. По спине пробегает холод, трясутся мелкой дрожью руки.
Капли пота скатываются по лбу, к глазам. Анэ смаргивает пот, смешанный со слезами, и переводит взгляд наверх, пытаясь угадать, где находится, и боясь правильного ответа.
Ведь она знает это место. Анэ раз за разом возвращалась сюда во сне. Когда была маленькой девочкой, когда впервые увидела ритуалы отца, когда он сказал, что ей придется в них участвовать. Тогда она оказывалась в этом месте, стоило ей лишь лечь на шкуру и закрыть глаза, – и просыпалась в ужасе, с мокрыми от пота волосами, и беззвучно кричала, пока отец не приходил и не объяснял ей, что это всего лишь сон.
Но сейчас Анэ не спит. Ее смыло водой, сквозь боль и давящий страх. Унесло туда, где нет и не будет места живым.
Совсем рядом раздаются шаги – Анэ улыбается и едва не плачет от облегчения, ведь она знает эти шаги дольше, чем собственное имя.
– Отец, – шепчет она через дрожь и слезы.
Теперь все точно будет хорошо. Пускай они и здесь, в таком одиноком и мрачном сне. Это ничто по сравнению с тем беспомощным ужасом у штормового моря. Анэ не решается посмотреть на отца, все представляя себе его дрожащую в сугробе макушку, но знает, что теперь он с ней.
– Скажи, что мне делать? – тихо спрашивает Анэ.
Отец берет ее руку – кожа у него шершавая и холодная, словно принадлежит мертвецу, – и показывает туда, где падает тонкая полоска лунного света. Анэ смотрит, пока глаза не начинают болеть.
–Помоги, помоги, по-мо-ги, – шепчут тени.
Анэ скользит по ним взглядом – они то появляются, то скрываются в глубине пещеры. Где-то вдалеке раздается приглушенный вой, и Анэ вздрагивает, крепко хватаясь за отцовскую руку.
А потом понимает, что сжимает ладонью пустоту.
Отец исчез. В пещере стало холодно. А тени проникают в голову, мысли, под кожу…
Анэ вновь не чувствует тело. Ноги, руки, пальцы – все будто исчезло вслед за отцом и очень быстро потеряло значение. Она словно парит в тяжелом воздухе пещеры, больше не вдыхая влагу.
Тени бесчинствуют. Они мечутся, зовут, кричат, поют на языках, которые никогда ей не были известны. Анэ начинает над ними возвышаться – души запертых здесь существ все больше от нее отдаляются, а сама она устремляется за вечным лунным светом. Все несуществующее уже тело, вся душа ее наполняется этими лунными бликами. Анэ впускает в себя свет, пока тени продолжают истошно кричать.
И когда она оказывается на самом верху, то невольно начинает петь. Вторит песне из сотен голосов – тех ангакоков1, что давно жили и умерли, и остались здесь, в пещере.
Наконец свет застилает все…
Вечным звон
2000 год, 20 апреля, 10:00
…Солнце. Камни. Анэ задыхается, смотрит прямо на солнечный круг. Тут же жмурится от боли в глазах, но заставляет себя смотреть. В наказание, что не успела, не уследила, не попыталась ничего сделать.
Тяжелый вздох – и она замирает, ожидая услышать крик отца, – но ничего не происходит. Вместо этого – тишина. Ни шагов, ни шума волн. Только яркое синее небо.
Не в силах больше смотреть на солнце, Анэ крепко жмурится и пытается снова открыть глаза – но тело перестает ее слушаться. Она пытается моргнуть, закричать, пошевелиться, но вместо этого лишь кричит у себя в голове.
И уносится глубоко в сон.
2000 год, 20 апреля, 10:30
…Шаги. Шорох. Далекий лай собак. Множество ног ступают по камням вокруг Анэ.
Она слышит тихие голоса, слышит бормотанье, но ничего не может разобрать. Пытается пошевелить руками, и один из пальцев – она не может понять, какой именно, – начинает дрожать. Анэ вздыхает с облегчением и медленно открывает глаза.
Чтобы сразу затрястись и подняться над землей.
Чьи-то руки ухватили ее за конечности и тащат вниз. Солнце стало еще ярче, еще безжалостней, и Анэ вновь зажмуривается.
Может, это отец позвал на помощь? Она тут же отметает эту мысль, понимая, что отец никогда бы на помощь не позвал – тем более после того, как она нарушила ритуал.
Анэ пытается оглядеться, поймать хоть кусочек окружающего мира – но ее тело обмякает в руках незнакомцев. Она испускает тихий стон и невольно закрывает глаза.
2000 год, 21 апреля, 12:00
Тепло. Тихий шум где-то за стеной.
Анэ смотрит на потолок, всем умом и телом прикованная к мягкой кровати. Деревянные плиты с редкими разводами грязных цветов. Запах свежей оленины, такое нежное покрывало, что можно в нем раствориться. Слишком удобная кровать – и Анэ раздражается, ворочается на ней, пытаясь понять, чем заслужила такую мягкость. Каждый миг, проведенный здесь, в тепле, ощущается как душевная пытка. Каждый миг напоминает о том, что над ней больше не крыша хижины или открытое небо, а что-то большое, светлое и совершенно чужое.
Время тянулось бесконечно. Анэ пришлось долго лежать в кровати, медленно впитывая происходящее, – этот мир был ей знаком, но одновременно казался странным и чужим.
Перед глазами то и дело восставали огни костров – плясали, горели и ослепляли. В ушах застыла песня отца – протяжная и оглушительно громкая. Он в исступлении бил в бубен и пел на незнакомом языке. И из черного дыма появлялись бледные стонущие души, и слышался тихий шепот духов, заключенных в морскую воду, небо и камень. Анэ держалась за эти образы, говоря самой себе, что они с отцом обязательно вернутся и она вновь будет стоять у костра, наблюдая за ритуалом, покачиваясь в такт тягучим песням ангакока.
Все это время она, кажется, не вставала. Или этого не помнит. Мгновения слились в одну плотную, мутную пелену из обрывков воспоминаний, которые она видела, и стен, что ее окружали. Анэ молча слушала женщину по имени Тупаарнак, которая подходила к ней, тяжело садилась на ковер и все рассказывала о мире, в который пришла Анэ. Говорила, какой сейчас год, как называются разные предметы в комнате. Говорила, что знает, откуда она, и что все обязательно будет хорошо. Анэ не понимала, откуда у Тупаарнак эти знания, но это было последнее, что могло теперь занимать ее мысли.
Под успокаивающий голос, мягкий, словно животный мех, Анэ незаметно проваливалась в сон. А когда просыпалась – молча слушала и пыталась соотнести ее слова с тем, что могла видеть лежа в кровати. Смотрела на свои тонкие руки и старалась найти в них хоть что-то новое, изменившееся за двести лет. Рассматривала одежду, которую Тупаарнак положила на кровать, – черную, непривычно чистую, жесткую на ощупь. Анэ быстро поняла, что это совсем не мех и не шкуры – теперь одежду делают из чего-то другого.
Но главное – она все время прислушивалась к пульсациям в собственном теле.
Тело ощущалось по-новому. Она не могла найти этому точное объяснение, но знала, что ритуал ее изменил. Даже если он сорвался. Что-то тряслось, дрожало, билось, рвалось наружу. Неведомая сила текла по ее венам, стены и предметы перед глазами виделись более четкими, яркими – едва не светились. Напрягшись, Анэ могла услышать биение собственного сердца. Оно даже стучало по-новому – гораздо быстрее.
Теперь, в очередной раз проснувшись, она чувствует, как распухает голова. Но в этот раз Анэ оттягивает, прячет свою боль. С большим усилием держит глаза открытыми – в любое мгновение может зайти Тупаарнак, а чужой человек точно не должен видеть ее слабость. Анэ делает глубокий вдох, пытаясь себя успокоить.
Все будет хорошо. Пусть отца нет рядом – их общая сила поможет ей справиться.
Раздаются медленные, тяжелые шаги.
Анэ вздыхает, закрывает глаза, переворачивается на бок – ей еще трудно смотреть на новую комнату вместо ледяных или кожаных стен хижины – и ждет, когда зайдет Тупаарнак.
Женщина входит в комнату, прикрыв за собой шумно скрипнувшую дверь, и с тяжелым вздохом опускается на ковер из шкуры. Тихая маленькая женщина. Анэ помнит ее худое лицо, тонкие пальцы и очень короткие, почти мужские волосы. Если б не живот, Анэ легко бы спутала ее с молодым парнем.
Тупаарнак пытается взять ее за руку, но Анэ вздрагивает, едва почувствовав чужое прикосновение.
– Ты спишь?
Анэ мотает головой, изо всех сил заставляя себя открыть глаза.
Наконец это получается. Она поворачивается к двери и видит, как Тупаарнак сидит на полу, поджав под себя ноги и гладя огромный живот.
– Тебе пора вставать и начинать ходить. Анингаак говорит, скоро придет время малыша. Я не смогу тебе больше помогать.
Анэ тихо кивает и пытается опереться на руки – но лишь вздыхает и еще глубже проваливается в кровать. Она не понимает, зачем вставать. Отца нет. Тупаарнак – всего лишь женщина, даже не ангакок. Анэ может лежать на этой кровати, пока не умрет.
– Давай попробуем еще раз? – мягко спрашивает Тупаарнак, и Анэ чувствует на себе ее внимательный, обеспокоенный взгляд.
Она думает – сколько в беременной женщине может быть силы? Как мог бы воспользоваться этой силой отец?
Анэ кивает, не смотря на Тупаарнак.
– Все соседи про тебя спрашивают. С тех пор как наши завели тебя в дом, сплетни не прекращаются. – Тупаарнак тихо смеется. – Давно у нас не было такого оживления. И что я им скажу, если ты не выйдешь?
– А зачем мне выходить, – шепчет себе под нос Анэ, но женщина все равно ее слышит.
– Ты можешь ничего мне не рассказывать. Но если хочешь вернуться домой, где бы этот дом ни был, тебе нужно бороться здесь и сейчас.
Бороться… Анэ вертит на языке это слово, но оно неприятно жжется. По телу проходит очередная пульсация, и пальцы начинают дрожать. Она представляет рядом отца – он сидит на кровати и смотрит на нее с разочарованием и строгостью, ожидая, когда Анэ наконец преодолеет свою слабость и встанет, чтобы бороться и жить. Она запускает руку в тяжелые волосы, думая, что они стали грязными и жирными за время, пока Анэ лежала в кровати. Но нет. Чистые и мягкие, как никогда.
«Надо помочь отцу», – отзывается в голове такая безнадежная и грустная мысль, что Анэ хочется исчезнуть в этот же миг. Мысль о возвращении кажется такой естественной, но тело тут же отзывается на нее болью в сердце.
– Ладно, – хрипло говорит Анэ и резко садится.
Тупаарнак издает восхищенный вздох.
– Молодец! У тебя ничего не болит? Я могу позвать врача… или Анингаака.
– Все хорошо, – протягивает Анэ, не зная, что такое врач, но четко зная, что она никого сейчас не хочет видеть.
Муж Тупаарнак, как Анэ поняла, был ангакоком. Она сначала думала, что за двести лет что-то могло изменяться, – но мысль, что в этом чужом поселении хотя бы есть ангакок, наполняет ее необъяснимым спокойствием. «Отца не заменит никто», – думает Анэ и замирает. Ангакок больше не отец, а чужой мужчина – и это кажется слишком неправильным.
Анэ пытается представить, как может выглядеть Анингаак, но разум сопротивляется, отталкивает этот образ. Если за двести лет ничего не изменилось, то это должен быть сильный человек. Тот, кто видит запретное. Кто спасает, защищает и определяет наказание. Целитель, воин и проводник между духами, мертвыми и живыми – и от понимания, какую силу содержит в себе совершенно незнакомый пока человек, Анэ жмурится и невольно закрывает руками тело.
Она слышала много историй. От отца, от соседей, которых ей удавалось подслушивать, от приезжих за помощью семей и путешественников. Ангакоки, умеющие превращаться в птиц, спускаться за знаниями и помощью к мертвым. Создающие по ночам сильнейших злобных духов, которые отправлялись к таким же ангакокам и разрывали их на куски. Ученики, голодающие неделями и месяцами, чтобы обрести силу. Часами стоящие коленями на земле, просящие духов послать им диких зверей в тяжелые дни.
Анэ аккуратно слезает с кровати и чувствует под ногами деревянный пол. Тупаарнак тяжело встает следом за ней и спрашивает, не холодно ли. Анэ лишь пожимает плечами – к холоду она привыкла благодаря испытаниям отца. Да и в этом доме ей необъяснимо тепло и хорошо, не так, как в привычной хижине.
Отец хотел бы, чтобы она разобралась во всем происходящем и выбралась отсюда. Обратно, домой, к нему. Чего бы это ни стоило – именно так он жил. Через страдания, испытания и необходимые жертвы.
Анэ удается представить отца, стоящего у двери со скрещенными на груди руками. Он смотрит прямо, не отводя взгляд, – смотрит и ждет ее следующего шага. Она тихонько ему кивает и думает, как бы он поступил дальше: осмотрел поселение, в котором оказался, и нашел, что здесь можно использовать для обратного ритуала.
– Ты помнишь, что я тебе говорила? – подает голос Тупаарнак, держась за живот. – Про поселок.
– Да, – выдавливает из себя Анэ.
Она пытается изобразить на лице улыбку. У отца на все был один ответ: главное, чтобы никто ничего не заподозрил.
– Мне побыть с тобой?
– Нет, – сразу же отвечает она.
Последнее, что ей нужно, – это чье-то общество. Тем более незнакомой женщины, почему-то помогающей человеку, которого видит впервые в жизни. Анэ старается не задавать лишних вопросов – только быть настороже и не давать загнать себя в ловушку.
Не спрашивай, выжидай, пользуйся удобным затишьем. В случае чего – готовься прятаться. Закрывай тело, закрывай лицо, проси помощи у камней, моря и земли. Мир опасен и чужд, и ты в нем – всего лишь гость, который в любое время может стать нежеланным.
– Погуляй, постарайся вспомнить, что случилось. Не забудь надеть анорак. Если тебе станет плохо или страшно – возвращайся сразу же или попроси кого-то провести до нашего дома.
Все это она уже почти не слышит – ее внимание направлено на дверь, у которой Анэ еще представляет отца. Она идет к ней, медленно открывает и вываливается в темноту коридора. Сверху тускло горит свет – то же самое Анэ видела и в комнате, в которой лежала. Лампы. «Электричество». За двести лет люди придумали столько всего, чтобы сделать свою жизнь лучше, – но до неузнаваемости изменили мир вокруг. Анэ безумно хочет наружу, только чтобы увидеть знакомые пейзажи, и в то же время боится выйти за дверь и не увидеть ничего похожего.
В конце коридора зияет проход в светлую кухню. Анэ пробирается сквозь душный воздух, сквозь темноту, и идет к свету – там особенно сильно пахнет оленьим мясом, и на мгновение она представляет, что это и есть путь к ее настоящему дому.
Но это всего лишь чужая комната. Синие стены, прибитые к ним полки. Много, очень много новых предметов. Анэ смутно вспоминает, что Тупаарнак уже водила ее по дому и объясняла все, что встречалось им по пути. Шкаф. Кухня. Плита. Котелки, в которых, судя по запаху, вываривается костный жир. Большие окна – сквозь них Анэ видит, как сушится на ниточках множество рыбьих туш.
Дома все это помещалось в одну скромную хижину. Пара лежанок, накрытых оленьими шкурами, посудины и место для огня. Теперь люди расширились настолько, что Анэ не может это мысленно охватить.
Она выбирает не смотреть на новые предметы – только на знакомую еду. Отчаянно нужно напоминание, как выглядит ее настоящий мир. Еда осталась та же самая – рыба, олени, киты. Анэ безошибочно определяет их запах и тут же представляет себе вкус жирного мяса, от которого сразу урчит в животе. Она закрывает его руками, заставляя себя не думать о еде и тепле, – словно она этого не заслуживает после нарушенного ритуала.
Да и все это сейчас неважно. Анэ не пробудет тут слишком долго. Насмотревшись на еду, она особенно четко понимает свою задачу – найти, из-за чего сорвался ритуал, и забыть это как тягучий, страшный сон, который никогда больше не вернется в ее жизнь. Развернувшись, Анэ выходит в коридор и быстро обнаруживает самую большую дверь – видимо, она служит входом в дом. Нащупывает холодную ручку, вертит ее, пытаясь открыть – и, наконец разобравшись, медленно открывает дверь и встречает звон десятков голосов. Слепящий солнечный свет, от которого тут же приходится заслониться рукой. Очень много шума и движения, такого, что хочется крепко закрыть уши и заставить себя исчезнуть.
Мужчины и женщины переговариваются, дети бегают и кричат. Маленькие черные точки, рассеянные на снегу. Стоит ей сосредоточиться на ком-то одном, как человек перестает быть точкой и вырастает в большую темную фигуру.
В конце улицы начинают лаять собаки – целая свора, привязанная к большому желтому дому. Он наполовину погребен под снегом – край желтой стены восстает из беспорядочных сугробов. Собаки поднимают лапами целые снежные комья, пытаются вырваться, убежать – но железная цепь раз за разом возвращает их на место. Черные фигурки оборачиваются на лай, кто-то медленно идет к ним.
Повсюду раскиданы разноцветные дома. Анэ таких цветов, кажется, в жизни не видела. Буйство красок вызывает острую тревогу, такую оглушительно громкую, что она тут же закрывает дверь. Теперь перед глазами маячит лишь темная поверхность – и с этим она может смириться. Стоять и смотреть на дверь, пока тело не начнет обволакивать усталость. Анэ тепло и холодно, спокойно и страшно, и под кожей клубится неизвестная сила, разгораясь и стремясь наружу. Хочется убежать, спрятаться, но если ей нужно вернуться домой, то сделать это получится только здесь. В месте, где есть ангакок, где ей почему-то помогают, – в месте, откуда она не может выбраться сама.
Анэ слабо улыбается, представляя, как отец кладет руку ей на плечо. Как он тяжело дышит за ее спиной и обязательно держит спину ровно – никто не должен догадаться, что происходит на самом деле. Всегда расправленные плечи, ровная спина. Анэ выпрямляется, делает несколько коротких вдохов и вновь открывает дверь.
В глаза бьет яркий дневной свет, но к этому она уже привыкла. Немного морщась, Анэ осматривает раскинувшуюся впереди улицу. Дом Анингаака, кажется, стоит на холме – она смотрит сверху вниз, как по дороге бегают дети, как идет охотник, нацепив на спину, словно одежду, тело медведя. По его кожаному анораку стекают красные капельки крови.
Чуть помедлив, Анэ делает шаг вперед. Одна из черных точек останавливается, и Анэ замечает в ней круглое детское лицо и большие глаза. Ребенок показывает на нее пальцем и дергает за шкуры кого-то из родителей. Одна из собак издает протяжный лай, и люди резко замолкают.
Зажмурившись, Анэ быстро ступает назад и закрывает дверь. Она не может сейчас скрыть свое беспокойство. Не страх – а именно беспокойство, неприятно ползущее по спине. Откуда появились все эти дома, чем живут и как мыслят новые люди, верят ли они в ритуалы и духов так же сильно, как сама Анэ, – все эти вопросы застывают в воздухе и оседают на коже противной пылью.
Поселок – так называется эта россыпь домов по снегу. Жизнь, заключенная в дерево. Поселок Инунек.
Анэ пытается представить, как выходит из дома и спокойно идет по улицам. Как ловит на себе любопытные взгляды. Как слышит беспорядочный гул, гул стольких людей, скольких она никогда в жизни не встречала. Голову сжимает неведомая сила, так крепко, что она тихо стонет от боли, – тело тут же откликается дрожью, по ноге проходит судорога. Анэ вдруг становится неуютно не только в Инунеке, но и в собственном теле, которое живет своей жизнью. Хочется выскочить из него, обернуться бесплотным духом и улететь назад в прошлое – но нельзя, нельзя, об этом говорят их разноцветные дома, говорят ощущения в новом теле, говорят воспоминания о той страшной, черной боли, после которой она оказалась здесь.
Нельзя. Надо терпеть. И молчать.
Помедлив, Анэ возвращается в комнату, где спала, плотно закрывает дверь, садится на скрипучую кровать и выжидает. Обнимает руками колени, прижимая их к себе как можно крепче. К этому она привыкла – сидеть и смотреть на ближайшую поверхность, часами ожидая отца, не разрешая себе пошевелиться.
Смотреть и ждать. Погружаться в холодную пучину собственных мыслей и отрывочных, темных воспоминаний, от которых бегут неприятные мурашки по ногам, по рукам, по всему телу. Каждая мысль, каждый образ из прошлого ведет ее к смерти – жаркий огонь, холодный пот на лбу умирающего человека, китовые кости, головы белых медведей, обмазанные жиром. Тела, завернутые в шкуры оленей. Жизнь, постепенно гаснущая в глазах соседей. Благодарные улыбки людей, пришедших к отцу издалека. Боль на его лице, дрожь по всему телу, пока он стоял и просил духов о помощи – в темной хижине, в тишине, и лишь вздохи и шепот его напоминали, что отец еще жив.
Анэ прекрасно знает, что ни они с отцом, ни жители Инунека – не одни. Силы природы наблюдают и ждут. Каждый луч света, каждый камень, каждый порыв ветра – все напоминает ей о том, что есть вещи, которые никогда не сотрет время. Во всем, что есть в мире, заключены души, которые наверняка видят больше, чем Анэ.
И ей придется к ним обратиться, если она хочет вернуться домой.
Стук в дверь.
Анэ садится, гордо распрямляя плечи. Умом она понимает, что это может быть только Тупаарнак – но в ней зреет тревога, мерзкая и страшная. Анэ пытается отмахнуться, но вместо этого тревога лишь сильнее вгрызается в нее.
Ты не дома. Ты не в безопасности. Здесь все – чужое.
Дверь открывается, и в комнату заходит мужчина в черной одежде. Встает на пороге – морщинистое лицо, поджатые тонкие губы, темные волосы безжизненно свисают с плеч – и смотрит ей в глаза, внимательно и строго. Проходит несколько мгновений – Анэ сидит неподвижно, не в силах пошевелиться или отвести взгляд, – и мужчина тяжело вздыхает. Делает шаг вперед, тихо закрыв за собой дверь.
Анингаак. Анэ уже спрашивала себя, как же выглядит ангакок этого места, и думала, что он должен быть похож на отца, и от этой мысли все внутри нее сжималось.
– Привет. – Анингаак стоит там, где Анэ до этого представляла отца, и тихонько ей улыбается.
В руке он сжимает бубен – точно такой же, за каким она наблюдала все годы своей жизни. Он ничуть не изменился. Светло-коричневый, облезлый, с оленьей шерстью по краям. Явно легкий – Анингаак удерживает его даже не рукой, а тремя пальцами.
– Привет, – шепчет Анэ, смотря куда угодно – на дверь, на бубен, на стены, – но не на него.
– Ты Тупаарнак толком ничего не сказала, но мне нужно знать. Как тебя зовут? – Анингаак тоже, кажется, на нее не смотрит, и Анэ вздыхает с облегчением.
Мягкая поверхность бубна. Чуть напрягшись, Анэ может почувствовать на подушечках пальцев ее ворсинки. Анингаак держит его так неуверенно, что вот-вот должен уронить…
– Я Анэ.
…и роняет.
Анингаак вздрагивает и быстро поднимает с пола бубен – Анэ видит, как пальцы его касаются ковра, как трясутся, как всей поверхностью ладони он опирается на кожу бубна и, помедлив, быстро его хватает, возвращается на место, – бурчит извинения, которые до Анэ доходят лишь отрывками.
– Ты видела раньше такой бубен? – спрашивает он ее почти сразу, как поднимается, и в голосе его уже почти не слышно дрожи.
– Видела что-то похожее, – чуть помедлив, отвечает Анэ.
Она не верит ему, не верит, что он может быть как отец. Но какое-то глубокое чувство заставляет ее говорить правду.
У Анингаака слишком большие уши, слишком большой подбородок, слишком далеко посаженные глаза. Но глаза эти – она видит, она все-таки решается в них заглянуть – отдают неведомой силой и добром. Прямо как у отца. Анэ смотрит в них слишком долго и ничего не может с собой поделать – кажется, из черноты этих глаз до нее донесется отцовский голос и скажет ей, что нужно сделать, чтобы вернуться домой.
Но этого не происходит. Анингаак улыбается и подходит к ее кровати.
– Знаешь, как пользоваться?
Анэ мотает головой, не отрывая взгляд. Ей не разрешали даже трогать бубен – но пару раз, еще в детстве, она все-таки вертела его в руках, пока отец спал или отходил на охоту. Она тогда пробиралась в снежную хижину, разглядывала по очереди каждый из отцовских предметов, пока не останавливалась на бубне – он всегда лежал где-то, спрятанный от чужих глаз, – и с благоговением ощупывала его неровную ворсистую поверхность. Но ничему она, конечно же, не научилась.
– Давай покажу.
Ей хочется спросить «зачем?» – но, как и с отцом, она не решается даже открыть рот. Она смотрит на свои бледные, покрытые шрамами руки и невольно протягивает их к Анингааку.
– Я хотела бы вернуться домой, – шепчет она невольно. И вздрагивает, когда понимает, что сказала это вслух.
Она не решается посмотреть на ангакока, но он жестами призывает ее встать, и Анэ тут же встает. Взгляд цепляется за ожерелье, на котором красуется белый медвежий зуб, – Анингаак дотрагивается до него на мгновение и отпускает.
– Откуда ты? Где ты живешь? – Пальцы Анингаака цепляются то за зуб, то за шерсть на свитере, то за собственные руки.
Анэ наблюдает за его движениями, не решаясь ничего сказать. И впивается взглядом в пальцы ангакока, не в силах произнести ни слова. Язык ее становится каменным, не слушается, не двигается во рту. И она молчит, пока Анингаак вновь не подает голос:
– Ладно. Посмотри на меня.
Анэ поднимает взгляд без раздумий.
– Давай покажу тебе, как пользоваться бубном?
Она вновь порывается спросить «зачем?», но вместо этого кивает. Уже не хочется ни о чем спрашивать, ни в чем разбираться. Именно сейчас, под добрым взглядом ангакока, в тепле этой комнаты, хочется, чтобы ей просто говорили, что делать. Это все, что она когда-либо знала, – сидеть дома и подчиняться приказам.
Анэ, маленькая Анорерсуак2, не создана для ритуалов. И уж точно не создана для того, чтобы быть одной и самой принимать решения.
Анингаак садится прямо на ковер, и она садится вслед за ним. Она смотрит на волосы, на щеки, на глаза ангакока, а в голове – ни одной мысли. В какой-то миг вместо Анингаака она видит только отца, и в комнате будто становится теплее. Свет проникает сквозь окна, едва закрытые легкими шторами, на коричневый ковер ложатся лучи вечернего солнца, и бубен, и руки ангакока, и ее собственная одежда оказываются покрыты светло-розовой закатной дымкой. Медвежий зуб шатается и прыгает на шее Анингаака. Из коридора пахнет мясом – и этот запах возвращает Анэ в ее привычную хижину, отчего по коже идут мурашки.