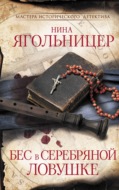Kitobni o'qish: «Убийство по-китайски»
© Попандопуло А. Ю., текст, 2024
© ООО «Издательство АСТ», 2024
Пролог
«Воскресение Твое, Христе Спасе», – донеслось из собора уже совсем отчетливо. Тяжелые, обитые медью двери распахнулись. Антипка – худой белобрысый парнишка, стоящий с нищими у собора, заерзал и предпринял еще одну попытку протереться поближе к паперти, но получил тычок в грудь и снова отпрянул назад. Неистово затрезвонили колокола. На ступенях показался дьякон с фонарем, за ним несли крест, икону Богоматери в золотом окладе и хоругви. Между двумя шеренгами служек величаво выступал ведущий службу архимандрит. Стоящие на улице оживились. Крестный ход медленно и торжественно выступал из храма. Блеск свечей, драгоценных камней, рассыпанных на крестах и окладах, запах ладана, гудение колоколов – все это ворвалось в промозглую сырость ночи, закружило, оторвало от земли. Антипка поднял глаза. На черно-звездном фоне сиял золотом крест.
– Хорошо-то как, дядька, – обратился он к стоящему рядом хромому инвалиду, – благодать!
– Благодать-то благодать, да не забыли бы подать. Стыну совсем, – просипел тот и закашлял.
– Праздник православный, благолепие. Дитя радуется. Спаси, Христос! – закрестилась рядом баба в платке.
Нищий коротко глянул на нее, потом на иззябшего Антипку и мотнул головой. Ход спустился по широким ступеням и пошел вокруг храма. Нищие, до того стоявшие по обе стороны высокого соборного крыльца, потянулись вослед. Антипка оказался с самого края процессии. Ледяной ветер кинулся под лохмотья и пробрал до самых печенок.
– Жены-мироносицы, заступницы, – бормотала богомольная тетка.
Бахнул салют. Яркие искры взлетели в небо, смешались со звоном и пением. Закружились-заметались в морозном воздухе, выхватывая из темноты крыши, черные сугробы, брусчатку, голые черные ветви, золотое шитье. Антипка завороженно вертел головой и вдруг удивленно присвистнул. Немного в стороне, в тени торгового ряда, на площади обосновалась диковинная группа – низкие узкоглазые люди в необычных длинных одеждах и круглых шапках. В центре группы стоял такой же узкоглазый господин, но в пальто на меху и шляпе-цилиндре. Сполохи салюта лишь ненадолго озаряли темноту галереи, ложились рваными отсветами на бесстрастные плоские лица. Словно маски, подумал Антипка. Он засопел, попытался приостановиться, чтобы еще раз рассмотреть странных людей, но получил ощутимый тычок в спину – а ты не стой столбом, не мешай людям. Вздохнул и заковылял дальше.
– Это китайцы, – внезапно пояснил шагающий рядом мужчина с темной курчавой бородой, в высоких сапогах и богатой синей с красным узором сибирке, но с каким-то удивительно нервным, даже больным лицом. – Еще встретишься с ними. Они, я думаю, надолго. К Трушникову приехали.
– Китайцы, ишь ты. От больших денег можно и китайцев пригласить, – покивал инвалид. – Смотрят на наш праздник! Поди, у себя такого благолепия и не видели.
– Барин, а барин, а что это Трушников нехристей позвал? А он им деньги платит или они ему? – заспешил с вопросами Антипка.
– Трушников! Деньги! – грубо буркнул какой-то мужик сзади. – Не Трушников, а Трупников, скажи! Рожа.
– Тише-тише. Простить надо, – вступила давешняя баба в платке.
– А ты мне рот не затыкай, знаю, что говорю. Я у него, может, на складах работал. Всякого повидал, – цыкнул мужик.
– Так что я-то, праздник Христов, а ты лаешься. Бесам на радость такое, батюшка.
– То-то и праздник, – внезапно подхватил бородач. – Самый праздничек. Яблоко люди съели – Господь проклял, а сына распяли, так простил. Вот тебе и подумай.
Баба мелко закрестилась. Инвалид молча потянул Антипку прочь от странного соседства. Впрочем, и сам барин заспешил сквозь толпу вперед к чистой публике. Его настойчивая суетливость, странно-бесцельная порывистость в движениях, а больше всего отсутствие свечи вызывали немало удивления. Народ недоуменно косился, пожимал плечами, что, впрочем, мало заботило нарушителя спокойствия.
Антипка подтянулся на цыпочки и нашел глазами семейство Трушниковых. Отец – Василий Кириллович в шинели с большим меховым воротником с перевязью и орденами важно шел в первых рядах крестного хода. Сухое и острое лицо его было в соответствии со случаем спокойно и полно достоинства. По правую руку от него, чуть сзади, опустив глаза, шла женщина в очень красивой и явно дорогой одежде. Ее Антипка знал хорошо. Это была жена Трушникова – Ольга Михайловна. Немного полюбовавшись ею, парнишка выхватил взглядом молодого щеголя с презрительной миной на гладком выхоленном лице, а позади него еще одного мужчину – чуть старше, низкого, широкоскулого, с раскосыми глазами. Этот господин был одет много проще окружавших его людей, но не только это выделяло его из толпы – в руке у него не было свечи, и вообще в службе широкоскулый участвовал мало (даже крестился раз через два и как-то неохотно). Антипка нахмурился, этого мужчину он знал, и ему было неприятно, что тот пренебрегает праздником.
У паперти снова встали. Звон утих. Архимандрит совершал каждение дверей собора. Пел хор. Влажный стылый воздух дрожал вокруг огней зажженных свечей. Ликующая радость зародилась где-то внутри Антипкиного живота и стала шириться, подниматься, пока не заполнила все тело. Лица стоящих разглаживались, плечи выпрямлялись.
– Христос воскресе! – наконец возгласил архимандрит.
– Воистину воскресе! – понеслось над площадью.
Двери распахнулись. Ход повлекся внутрь собора. Свечи, иконы, монашеские одежды, праздничное облачение белого духовенства, пальто, шинели, сибирки, салопы медленно плыли по ступеням, возносясь в храм, как в рай, а навстречу им летело ликующее пение хора. Потекли по ступеням и нищие. На середине лестницы Антипка оглянулся. Тяжелый мрак лежал в галерее торговых рядов. Свет фонаря на углу не мог пробиться под своды. Впрочем, почему-то казалось, что никого там уже и нет. У самой двери, там, где уже тянуло теплым сухим воздухом, в грудь мальчика внезапно уперлась чья-то рука. Он поднял глаза. Путь преграждал полицейский офицер в парадном мундире. Антипка скорчил жалобное лицо, но полицейский только покривился.
Люди текли мимо. Из храма тянуло теплым воздухом. Антип, хромой и баба в платке жадно ловили тепло.
– А и на паперти встретить праздник – все благодать, – заметила баба. – Иисус смирению учил…
– Эту науку мы хорошо усвоили, – буркнул инвалид. – Только отчего все нам уроки? Вон тех же Трушниковых отчего бы этой науке не поучить.
– Что ты все бунтуешь, яко бес, – замахала рукой баба. – Хоть в праздник свой язык-то греховодный придержи. И потом, у каждого свой крест-то, али не знаешь? Где Господь дает, там и берет.
– А что он у них взял? – влез Антипка. Очень ему нравилось слушать про беды богачей.
Тетка покосилась на него.
– Ты маленький – не помнишь, а я все вот этими глазами, считай, видела. Все передо мной было. Драма у него в семье, – она понизила голос. – Выгнал он старшего сына. И сам посуди, что важнее – деньги или сын?
Антипка был уверен, что деньги, но тем не менее скорчил подобающую гримаску и закивал головой.
– А что с сыном то дальше стало? – спросил хромой.
– Так… – растерялась баба. – Вроде умер. Слухи разные.
– Умер тот сын, совсем умер, – донесся сзади низкий голос.
Антипка повернулся. Позади них стоял давешний бородач в богатой сибирке. Он прошел вперед, что-то сунул в руку полицейскому.
– Этот со мной, – кивнул он на Антипку.
Офицер дернул плечом и отвернулся. Антипка юркнул в собор и встал у стены. Странный же господин повертелся немного у входа, снова будто кого-то выглядывая. Застыл на мгновение. Потом развернулся и, расталкивая входящих, бросился вон.
– Даже лба не перекрестил, – прошептал инвалид, который, как и Антипка, проскользнул в храм и тоже, оказывается, следил за странным барином. – Ты вот что, малой, ты помолись-ка за него. Детская молитва до Господа всегда доходит. Давай, ничо.
1
Из записок АПЗ
Теперь, когда имя Бориса Михайловича Самуловича известно всем, а значимость его трудов по физиологии и клинической медицине трудно переоценить, я решил положить на бумагу кое-какие свои воспоминания о нем и том времени, когда он делал свои первые шаги. Вижу, как некоторые из вас улыбнулись – еще один осколок прошлого пытается скрасить жизнь, вспоминая былую близость к великим людям и делам. В чем-то вы правы. Многие из нас – надломленные, лишенные почвы под ногами, да что там скрывать – нищие и всюду чужие, мысленно уходят в прошлое. Кто-то ищет там причины произошедшего, те точки, когда, приложи мы усилия, все могло бы повернуться иначе, кто-то бесконечными рассказами о своем былом блеске хочет пробудить в окружающих хоть искру того уважения, к которому он привык и на которое по нынешнему своему положению не имеет ровно никаких прав. Большинство же, по моим наблюдениям, уходят в прошлое, как завзятые опиумисты уходят в зыбкий мир грез, – пытаясь забыть тяготы и унижения настоящего. Однако хочется думать, что причины, побудившие меня взяться за перо, лежат в несколько иной плоскости, чем мои личные интересы и выгоды. Дело в том, что совсем недавно ко мне обратился один весьма молодой французский журналист с просьбой рассказать что-нибудь о ранних годах Самуловича. Я тогда отговорился плохим самочувствием – юноша не внушил мне доверия своим слишком легкомысленным тоном и намеками на то, что воспоминания должны содержать некий элемент сенсации. А еще лучше скандала. Так или иначе, я отказался тогда говорить, однако сама мысль – обнародовать то, что я знаю, то, что видел собственными глазами, – показалась мне правильной. Вполне очевидно: рано или поздно появятся и серьезные исследователи биографии Бориса Михайловича. Для них, а также для всех, кто лично знал нас в ту пору, и пишу я свои заметки. Уверен, что они позволят раскрыть еще одну, совершенно неожиданную сторону этого неординарного человека.
Итак, за дело.
Познакомились мы совсем молодыми людьми. Случай свел нас в губернском городе Т., куда мы оба приехали после окончания университетов (я – Московского, по курсу математики, он – Киевского, по курсу медицины). Самулович приехал раньше меня месяца на два или три и к моменту моего появления в городе уже занимал место врача и неплохую квартиру во флигеле городской лечебницы, которую гордо именовал больницей. Я же поступил в Контрольную палату и снял комнату как раз напротив, в доме вдовы городского архитектора Беляковой. Не знаю, правда ли, а только мне кажется, что мы с Борисом сразу как-то приглянулись друг другу. Свои первые впечатления я, во всяком случае, помню очень отчетливо. Буквально через несколько дней после заселения я шел на службу и увидел, как молодой доктор руководит уборкой больничного сквера. Столько толковой энергии и природного оптимизма было в его низкой и грузно-нескладной фигуре, такой контраст составляли точные короткие указания и простоватое крупноносое лицо, что я невольно затормозил. Он тоже, похоже, заметил меня. Мы обменялись поклонами и с того дня постепенно началось наше сближение. Окончательно же мы сошлись, встретившись на почте и с удивлением обнаружив, что оба получаем одни и те же литературные журналы. Не стану скрывать, что я с первых дней ставил своего нового друга несколько выше себя. Его необыкновенная эрудированность, а главное, увлеченность наукой восхищала меня чрезвычайно. Что он нашел во мне, кроме верного товарищества, – не могу сказать. Уж точно не «возможность пролезть в губернаторскую семью», как шипела за спиной Бориса Михайловича худшая часть губернского социума. Разумеется, это было неправдой. Во-первых, хоть я приходился губернатору двоюродным племянником по матери, но никакой особой протекции составить не мог. И если дядя впоследствии и выделял Самуловича, то исключительно благодаря его уму и медицинскому таланту, который теперь так широко признан. А во-вторых, и даже в главных, я не знал и не знаю человека менее склонного к интригам и менее озабоченного своим положением в обществе, чем Борис Михайлович. Все внешнее было ему абсолютно органически чуждо. Даже мои юношеские попытки исправить его гардероб или советы парикмахерского свойства он воспринимал с совершенно искренним недоумением и только спрашивал, неужели совсем невозможно ходить в обществе так, как ходит он, а коли возможно, так зачем же что-то менять.
Та история, о которой я хочу рассказать, началась весной 188… года, моего первого года в Т. Был Пасхальный понедельник. С утра я забежал в палату, постоял на молебне и забрал материалы по контрамаркам за обывательские подводы. В то время я был очень увлечен финансами. Мне казалось, что новые методы бухгалтерского анализа и статистики с одной стороны и свободной конкуренции с другой, могут преобразить Россию – меньшими категориями, понятно, я тогда и не мыслил. Полный энтузиазма, я с увлечением брался за любую работу и старался по осколкам информации составить общую картину и «изучить российскую деловую жизнь с самых ее основ», как я тогда писал своим университетским приятелям. Итак, в тот день я расположился с документами дома и принялся за составление справки. Вечером ко мне должен был зайти на шахматы Самулович, и я надеялся закончить все сверки до его визита. Однако цифры у меня категорически не сходились, что до крайности, помню, раздражало. Я взял папку с бумагами и решил разложить ее содержимое на полу строго в хронологическом порядке. Каждый документ я заново внимательно изучал, сопоставлял его данные с таблицей, которую вел на отдельном листе, и только потом помещал на ковер на предназначенное место. Я увлекся и, кажется, почти нащупал источник ошибки, как вдруг, зачерпнув очередной раз из папки несколько документов, остановился и какое-то время тупо разглядывал лежащий сверху конверт дешевой серой бумаги с пометкой «А. П. Зимину лично в руки». Потом я начал озираться, как будто пытаясь увидеть здесь у себя в комнате человека, подкинувшего странный конверт. И наконец зачем-то подошел к окну. Промозглый серо-линялый апрельский вечер плескался на улице. Желтые пятна больничных окон расплывались в напоенном влагой воздухе. Низкая бесформенная фигурка быстро пересекала улицу. Я бросился на первый этаж и распахнул дверь.
– Борис, как я рад, что ты пришел! – приветствовал я Самуловича.
– Как же не прийти, коли договорились? – улыбнулся он. – Да не случилось ли чего? Что это ты так возбужден? Здоров? Что дядя?
– Все здоровы, спасибо, – успокоил я его, провожая в свои комнаты. – Тут, понимаешь, странное дело. Похоже, мне письмо подкинули.
– Письмо? Что ж, радуйся, что подкинули письмо, а не ребенка. Да и что ты всполошился? Никаких грехов за тобой не водится, так что шантаж отпадает. А остальное…
Самулович аккуратно повесил видавшее виды пальто, поддернул брюки и принялся протирать пенсне – что делал всегда в период раздумий или волнения. Я подвинул ему стул, крикнул служанке, чтобы принесла самовар, а сам аккуратно собрал бумаги с пола обратно в папку. После чего положил странное письмо в центр стола.
– Вот, смотри! – несколько театрально объявил я. – Таинственное послание, прямо мистика. Нашел в папке с рабочими документами. Совершенно не понимаю, как оно там оказалось. Готов поклясться, что в пятницу, когда я последний раз работал с этой папкой в присутствии, этого письма в бумагах не было.
– А что пишут? Ты читал? – тут же схватил конверт Борис. – Даже не распечатал? Что же ты!
Я протянул ему ножик, он аккуратно вскрыл конверт и достал небольшой неровно отрезанный лист. Мы склонились над письмом.
«Милостивый государь Аркадий Павлович. Знайте, что в ближайшее время в городе произойдет убийство. Жертвой станет Василий Кириллович Трушников. Информация у меня самая достоверная. Имени своего не раскрываю по личным мотивам. С уважением к вам, без имени», – прочитали мы.
– Вот это шутки так шутки, – протянул Самулович и аккуратно положил листок на стол.
– Да, странно. Как думаешь, что все это значит?
Борис скосил на меня глаз:
– Дело о загадочном письме! Таинственный аноним и два бывших студента, – заговорщическим голосом провозгласил он. – Выдвигаю версию номер один – это ты, мой друг Аркадий, решил меня повеселить. Нет? Тогда версия номер два: это – глупая мистификация. Кто-то узнал о наших с тобой литературных вкусах, – он кивнул на полку, где стояли заботливо переплетенные произведения По, Годвина, Видока, Габорио, Гарта, Загоскина и Коллинза, – и решил подшутить.
Я слегка покраснел. В ту пору мне очень хотелось, чтобы меня считали взрослым и серьезным человеком, и именно этой части своих литературных пристрастий немного стыдился.
– Очень мне надо тебя мистифицировать, – буркнул я, – что до прелестной версии номер два, то кто и зачем будет устраивать с нами такую шутку? Не такие уж мы фигуры, чтобы ради нас затеваться.
– Да, мы сейчас (подчеркиваю, сейчас) – не фигуры. Смысла нет никакого. По зрелому размышлению отклоняем эту версию. Остается еще три варианта.
Он уселся в кресло, вытянул вперед пухлую ладонь и начал загибать пальцы.
– Primo1, записку писал психически неуравновешенный человек. Весной обычно происходит некоторое ухудшение всех нервных болезней. Этот вариант – самый безобидный. Не требует практически никаких действий с нашей стороны. Разве что я, как доктор, должен больше внимания уделять своим пациентам, так как скорее всего писал кто-то из моих подопечных.
– Почему?
– Это как раз достаточно очевидно. Качество бумаги, жидкие чернила, гадкое перо, оставляющее брызги, – все говорит о том, что писал это человек бедный, скорее всего пьющий (обрати внимание, как заваливаются строки). Ergo2 – автор сего письма как раз из тех, кто прибегает к услугам земской медицины. Хуже, если подтвердятся две оставшиеся версии, вот смотри: secundo 3, записку написал человек, который хочет таким вот образом помешать планам по открытию Губернского театра.
Внесли самовар, бублики, Борис оживился. Он очень любил поесть, хотя мало смыслил в сложных изысканных блюдах. Мы накрыли стол со всей возможной торжественностью, разлили чай. Борис затолкал за воротник салфетку и нацепил пенсне.
– То есть, господин Самулович, – произнес я, подняв щербатую чашку и оттопырив мизинец, – вы полагаете, что какой-то доморощенный Герострат взалкал славы и решил сорвать открытие храма муз?
– Это одна из версий, уважаемый господин Зимин, – важно кивнул он. – И версия эта сулит нам множество неприятных моментов, а возможно и скандал. Что скверно… очень скверно. Не люблю скандалов. А тут еще и пресса. Но самым плохим вариантом, мой друг, остается ad tertium4 – написана правда. Кто-то что-то знает, что-то слышал, что-то видел и действительно пытается таким образом помешать преступлению.
– Абсолютная ерунда, – вышел я из роли. – Зачем писать мне? Я ведь всего-то служащий Контрольной палаты. Нет, это Герострат. Уж мне поверь!
– Все может быть. А только ты не только служащий, но также племянник губернатора. И потом, где гарантия, что такие же письма не разосланы в приемную твоего дяди и в полицию? Только там их наверняка в печку кинули, как любую анонимку. Так что смысл есть. Еще какой. И что все-таки в письме, ложь или предостережение?
Весь оставшийся вечер мы провели в обсуждении таинственной записки. Сейчас, по прошествии времени, мне и самому несколько смешным и нелепым кажется тот наивный и радостный энтузиазм, с которым мы взялись за это дело. Тогда никто и представить себе не мог всех трагических обстоятельств, в которые мы окажемся вовлечены. Все происходящее мы воспринимали как небольшое приключение, интеллектуальную игру. Даже Борис, поначалу очень серьезный, все больше оживлялся. Постепенно нас охватил настоящий азарт. Как заправские сыщики, мы выдвигали версии, строили блестящие логические цепочки и тут же разрушали их не менее блестящими контрдоводами. Дошло до того, что мы устроили небольшую пирушку, послав в трактир Свешникова за закуской и самой дорогой мадерой, что по тем временам было для нас непозволительной роскошью. Разошлись за полночь, весьма довольные друг другом и ровно ничего не решив.
2
На следующий день я встал поздно. Голова не болела, но я чувствовал себя разбитым. Что-то неприятное сидело в голове, как заноза. Комната плыла в сером унылом сумраке утра. На столе уже стоял самовар и завтрак. Я накинул домашний пиджак и подошел к столу. Среди вороха канцелярских бумаг, как гнилой зуб во рту, выделялось давешнее письмо. Вот оно! Вечерний кураж покинул меня, и маленький серый лист с плохо написанными буквами теперь уже не казался билетом в мир приключений, а представал тем, чем и был на самом деле – пугающей меткой, которую посылала судьба, неоплаченным счетом, ядовитой змеей в траве. Я налил чай, подошел к окну и взглянул на больницу. В кабинете Самуловича уже, конечно, горел свет. Близость приятеля немного подбодрила меня. Я вернулся к столу, сел, взял чистый лист и по своей университетской привычке решил порисовать схемы, чтобы упорядочить наши вчерашние с Борисом рассуждения. Итак, к чему мы пришли. Есть письмо, имеющее целью либо предупредить об опасности, либо стать отправной точкой возможного скандала. Письмо передано мне как человеку, близкому к губернатору, и, возможно, я не единственный адресат. Очевидно, отправитель надеялся, что я проинформирую дядю, однако стоит ли это делать? Я поставил большой вопросительный знак и несколько раз обвел его. По этому пункту мы с Самуловичем решительно разошлись во мнениях. В то время как Борис категорически настаивал на немедленном, возможно даже письменном, уведомлении о полученной информации полиции («уж на твое письмо они должны отреагировать, а дальше не наше дело»), я высказывался за проведение собственного расследования. Я взял новый лист и начал писать вовлеченных в это странное дело по кругу: первым номером шел отправитель, от него я протянул стрелку к себе, от себя к губернатору, от губернатора связь шла к театру, и на этом первая ветка обрывалась. Я подумал, дописал с другой стороны от отправителя информатора под знаком вопроса, а следом убийцу. Дальше от каждого выписанного пункта стянул линии в центр. Посреди получившейся паутины написал «Трушников». Про основного фигуранта я знал мало, хотя, конечно, его неимоверное богатство и влияние не раз обсуждалось моими коллегами в палате. Я обвел фамилию рамкой и выглянул из комнаты.
– Галина Григорьевна, – позвал я свою хозяйку.
Как я уже писал, я в ту пору квартировал у вдовы городского архитектора. Галина Григорьевна Белякова в свое время была вывезена супругом из Малороссии в нашу туманно-промозглую губернию. Впрочем, жизнь в средней полосе на ней мало сказалась. И по сию пору была она столь же громогласна и энергична, какой, должно быть, предстала перед своим будущим мужем когда-то давно в ярком и веселом краю подсолнухов, казачьей вольницы и высокого южного неба. Вот и сейчас даже звук ее шагов по лестнице – уверенных, тяжелых и в то же время каких-то неуловимо радостных – внушал оптимизм.
– Что, батюшка, еще пирогов приказать? – появилась она на пороге. – Наконец аппетит пришел, а то что птица клюет. Соседям в глаза смотреть совестно, до того худой квартирант. Марфуша, пироги подавай!
– Да я не то чтобы… Выпейте со мной чайку. Помощь ваша нужна. Вы в городе давно, всех знаете.
– Что я знаю?! Что мне рассказывают? Вот при покойнике всех знала, было дело. И на собрания ходили, и на балы, и катания на лодках, на тройках, и у губернатора. А то помню, еще в Петербург ездили…
– Галина Григорьевна, – перебил я, – у меня вопрос небольшой. Мне бы ваше мнение про Василия Кирилловича Трушникова.
Имя это произвело на хозяйку мою неожиданный эффект. Она отставила чашку, выпрямилась и очень внимательно посмотрела на меня.
– Ты не поссорился с ним как-нибудь, Аркадий Павлович?
Видя, что я отрицательно покачал головой, хозяйка вновь ободрилась и, постепенно оживляясь, рассказала мне следующее. Род Трушниковых давний, хотя и не особо знатный (не чета мужнину роду, хотя и были Беляковы с Трушниковыми в далеком родстве, а все же Трушниковы от младшей и дальней ветви). Еще при Александре Первом отец Василия Кирилловича – Кирилл Сергеевич удачно женился на своей осиротевшей соседке по имению Елизавете Ивановне Камышевой. Впрочем, по слухам, брак был удачен только для жениха. Жену свою он сразу удалил от общества и фактически запер в имении. Сам же распродал приданое и пропал на несколько лет, возбудив в городе различные толки. Впрочем, еще большие толки пошли по его возвращении. Дело в том, что, как выяснилось, ездил он в Китай. Из своего путешествия, помимо всевозможных диковинных сувениров, он привез несколько контрактов на поставку чая. Суммы поначалу были небольшие, дела он вел через Кяхту и Ирбит. Большую часть года сам ходил с караванами, в городе показывался редко, к себе никого не звал, а все дела здесь решал через поверенных. Общество стало как-то даже и забывать о Трушникове, когда вдруг однажды город был разбужен траурным звоном. Вдоль по главной Дворянской улице от южной заставы и до собора шла погребальная процессия. Шесть первоклассных черных как смоль жеребцов в бархатных попонах с кистями и черными плюмажами на головах медленно тащили покрытые лаком дроги с богатым гробом. Вслед ехала карета с кучером и двумя гайдуками. Сквозь окошко самые любопытные разглядели внутри кареты мальчика, тихо сидящего на обитом кожей кресле. Вслед за каретой верхом ехал сам Кирилл Сергеевич. Потом тоже верхом следовал приказчик, уже хорошо известный в городе. Замыкали же шествие несколько крестьян да группа богомолок – из тех, что без счету ходят по Руси. Как выяснилось, хоронили жену Трушникова. При этом ни ее родственников, ни каких-либо знакомых, которые несомненно были у несчастной Елизаветы Ивановны в губернии, на похороны и поминки не пригласили. Да и поминок, по чести сказать, не было. После отпевания и прощания на городском кладбище вся кавалькада развернулась и тем же порядком выехала в имение. Странные это были похороны. Долго их потом обсуждали в гостиных. Но более всего город потрясло то, что мальчик в карете оказался сыном Трушникова, и о сыне этом, представьте, ничего в городе не было известно. А меж тем Василию Кирилловичу на тот момент исполнилось уже лет восемь.
Шли годы. Дела Трушникова ширились. Уже пробежал по губернии шепот: «миллион». В редкие приезды Кирилла Сергеевича в имение соседи старались послать ему приглашения, каковые он, впрочем, никогда не принимал. Василий же Кириллович совсем вошел в возраст, отстранил постепенно приказчика и все больше и больше забирал отцово дело в свои руки. Сходство с отцом у него, надо признать, с возрастом развилось поразительное. Так же как отец, был он высокий, жилистый, с черными густыми волосами, крупными, совсем мужицкими руками. Цепкие голубые глаза смотрели отстраненно, и только яркий красиво очерченный рот со слегка выдающейся нижней губой иногда выдавал чувства хозяина. Постепенно отец и сын стали чаще появляться в городе, причем обычно посещали собор, что было вполне удивительно ввиду полного отсутствия набожности у обоих. В деловые поездки они отправлялись теперь по очереди, старательно выстраивая свою империю, что раскинулась от Китая, через Кяхту и Ирбит до складов и контор в нашем городе. Дело Трушниковы вели жестко, и много темных историй ходило как вокруг их торговли, так и вокруг личной жизни, скрытой от общества и потому вызывавшей преувеличенное внимание. Но самая скандальная история произошла в тот год, когда уже моя хозяйка жила в городе. Началось все с известия о свадьбе младшего Трушникова и появлении в имении новой хозяйки. Сама свадьба прошла то ли в Ирбите, а то ли еще где. Но точно не в городе, что больно задело самолюбие местного общества. Собственно, открылось все на Троицу, когда Кирилл Сергеевич явился в собор в сопровождении молодой, очень красивой женщины в дорогом платье, с роскошным, совершенно неуместным в церкви жемчужным ожерельем, которого сама красавица очень стеснялась и все пыталась прикрыть платком. Как потом прояснилось, женился Василий Кириллович на дочери владельца рудного завода, с которым вел дела в Ирбите. Софья Павловна принесла хорошее приданое и сама была исключительно мила. Какое-то время Василий Кириллович был, по всей вероятности, сильно увлечен женой. Во всяком случае, слухи о кутежах прекратились. Отец, Кирилл Сергеевич, купил в городе огромный особняк, где затеял ремонт. На новоселье, которое состоялось буквально через год, неожиданно созвали все губернское общество. Прием был грандиозный, хозяева любезны, более того, в тот же вечер было объявлено о щедром пожертвовании на нужды города. С того вечера уже редко какое событие проходило без участия Трушниковых. Влияние их росло, дело ширилась, ордена, чины, связи. В общем, они ворвались в наш свет ярко и стремительно, и уже через два года, пожалуй, не было в губернии более влиятельной семьи. И вот на пятый год после новоселья, когда уже подрастал у Василия Кирилловича старший сынок Дмитрий, а младший Сашенька был на подходе, затеяли Трушниковы еще дело расширить. Сперва Василий Кириллович в Кяхту отбыл, а за ним и отец. Не видно их было года два-три. Ходили слухи, что после Кяхты вроде отправился старший Трушников в Китай, куда, спустя какое-то время, ему вослед поехал и Василий Кириллович. Дальше сведения разнились, и в точности, что уж там произошло и как, никто не знает, а только преставился Кирилл Сергеевич, считай, на Крымскую войну. Младший же вернулся в город уже полным владельцем всего дела. Но приехал не один. Был с ним маленький мальчик, на вид совершенный китаец, которого поселил он в своем доме и велел растить со своими детьми. Кем ему приходится Ванечка (так назвали китайчонка), осталось загадкой. Домыслы же были самые различные. Впрочем, ни Иваном, ни своими детьми, которых, напомню, было уже двое, Василий Кириллович заниматься не спешил. Вернувшись в Т., он практически открыто стал сожительствовать с одной актрисой, для чего даже построил при складах себе небольшой особняк, городскому обществу заткнул рот пожертвованиями, а театру назначил от себя такое содержание, что очень скоро город имел и блестящую труппу, и первостатейный репертуар. Мальчики же меж тем росли. Софья Павловна, как могла, занималась детьми и ограждала их от сплетен и толков, что кружили по городу.
– И вот, батюшка мой, – Галина Григорьевна взяла меня за рукав, – сколько времени прошло, а прямо как сейчас перед глазами стоит. Представь, зима, а какая у нас зима, сам знаешь. Вечер, я из монастыря шла. Только схоронила я Петра Савельича, горевала тогда очень. Вот и ходила в монастырь, панихиды заказывала, да и просто сама поминала. Свечу поставишь – оно вроде как пообщалась, и самой легче, и его душе польза. Так вот, решила я немного пройтись и шла как раз против дома Трушниковых. Вдруг слышу – что такое? Шум, женщина плачет. Вижу, у самого крыльца… там, знаешь, особняк-то не прямо на улицу выходит, а есть перед домом небольшой сквер с подъездной аллеей. Так вот, там вдали стоит экипаж и какая-то суета вокруг. Я знаю, что любопытство – грех, да уж грешна, что делать. Застыла тогда, стою смотрю. А там детей у матери отбирают! Бедняжка Софья Павловна в одном легком платье стоит на ветру, руки так жалобно тянет, а деток-то в экипаж лакей сажает. Стоны. Вспомнить – сердце сжимается. Рядом дворник стоял, конечно, люди у него и выспрашивают: «Это что же творится?». А он говорит, что отеческая, мол, воля, и все права отец на детей имеет. И никакого злодейства, а только законное дело. А я и сейчас скажу, что злодейство это было самое черное. И жизнь мою правду показала. Значит, вступила какая-то блажь Василию Кирилловичу. Забрал он мальчишек прямо в свой особнячок. И с одной-то стороны, вроде правильно. Учить стал. К делу приспосабливать. А с другой, ну скажи ты мне, по-божески это – к любовнице детей селить? А гнуть ребятишек на складах да в конторе до седьмого пота, а бить их наравне с прочими? Своих-то служащих он смертным боем бьет, кого хочешь спроси. Если и есть чистилище католическое, так оно вот там, в конторах да на складах. Оно, может, для дела и полезно, а для души как?
Bepul matn qismi tugad.